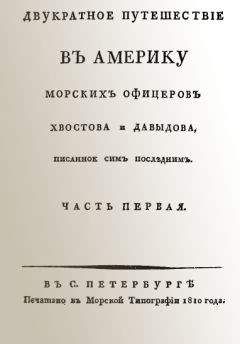Таким образом, мы видим, как начинают вырисовываться возможные очертания некоего нового гуманизма, когда на смену всеобщему подозрению, нависшему над языком в современной литературе, придет примирение слова писателя со словом всех остальных людей. Лишь в том случае, когда поэтическая свобода писателя укоренится внутри самой языковой ситуации, а ее границы совпадут с границами всего общества, а не с рамками тон или иной условной формы или же со вкусами известной части публики, — лишь тогда писатель сможет считать себя до конца социально ответственным. В противном случае эта ответственность навсегда останется номинальной; она сможет спасти сознание писателя, но не сумеет послужить основой его авторского поведения. Именно потому, что мысль не способна существовать помимо языка, что форма есть первая и последняя инстанция литературной ответственности и что в обществе отсутствует гармония, — именно поэтому язык — это воплощение необходимости и необходимого принуждения — как раз и создает ту ситуацию мучительного разлада, в которой оказывается писатель.
Множество разновидностей письма — вот факт пашен современности, который понуждает писателя к выбору, превращает литературную форму в способ человеческого поведения и вырабатывает ту или иную этику письма. Число измерений, в которые укладывается литературное творение, возрастает за счет еще одной, новой величины: форма как таковая начинает играть роль паразитарного механизма, существующего наряду с сугубо интеллектуальной функцией произведения. Современное письмо — это поистине самостоятельный организм, который нарастает вокруг литературного акта, придает ему смысл, чуждый его прямой интенции, вовлекает в двойную жизнь и поверх непосредственного содержания слов наслаивает пласт загустевших знаков, которые несут в себе свою собственную, вторичную историю, таят собственную вину и собственное искупление, так что судьба мысли, заложенной в произведении, начинает переплетаться с дополняющей ее, нередко ей противоречащей и всегда ее отягощающей судьбой формы.
Любопытно, что это фатальное свойство литературного знака — которое не позволяет писателю написать ни слова так, чтобы он немедленно не оказался в специфическом положении носителя архаичного, анархического, подражательного, но в любом случае, условного и обесчеловеченного языка, — начинает действовать как раз тогда, когда Литературу, все решительнее отбрасывающую свой статус буржуазного мифа, пытается использовать то гуманистическое движение, которое, осмысляя жизнь или свидетельствуя о ней, сумело наконец включить Историю в созданный им образ человека. В этих условиях прежним литературным категориям, — лишившимся (в лучшем случае) своего традиционного содержания, которое сводилось к выражению некоей вневременной человеческой сущности, — в конечном счете удается удержаться лишь благодаря наличию специфической формы, например, лексической или синтаксической упорядоченности; короче — благодаря известному языку: отныне именно письмо вбирает в себя все признаки литературной принадлежности произведения. Романы Сартра суть романы лишь в силу той (впрочем, постоянно нарушаемой) верности определенной речевой манере, нормы которой утвердились в ходе всех предшествующих геологических этапов развития романа. И действительно, Изящная Словесность просачивается в сартровский роман не за счет его содержания, а за счет его специфического способа письма. Более того, когда Сартр (в «Отсрочке») пытается разрушить романическую длительность и расщепляет свой речитатив, чтобы показать вездесущность действительности, тогда именно повествующий характер его письма восстанавливает — как бы поверх одновременности изображаемых событий — единство и однородность Времени, времени Повествователя, чей особенный голос, который нетрудно распознать по его специфическим модуляциям, отягощает, подобно паразитарному наросту, акт разоблачения Истории и придает роману двусмысленную интонацию свидетельского показания, которое на поверку может оказаться и лживым.
Из сказанного видно, что создание современного шедевра стало попросту невозможным, ибо письмо ставит писателя в безысходно противоречивое положение; одно из двух: либо его произведение наивно нацелено на соблюдение всех условностей формы — и в этом случае литература остается глухой к нашей живой Истории, а литературный миф оказывается непреодоленным; либо писатель ощущает всю широту и свежесть нашего мира, но, чтобы выразить их, располагает хотя и ослепительным в своем великолепии, но зато омертвевшим языком. Положив перед собою чистый лист бумаги, силясь подыскать слова, которые должны откровенно заявить о его месте в Истории и засвидетельствовать, что он принимает ее условия, писатель вдруг обнаруживает трагический разлад между тем, что он делает, и тем, что он видит; социальный мир предстает перед его взором как самая настоящая Природа, и эта Природа говорит, она создает множество исполненных жизни языков, от которых, однако, сам писатель безнадежно отлучен: взамен же История вкладывает ему в руки богато украшенный, хотя и компрометирующий инструмент — письмо, унаследованное от прошедшей и уже чужой для него Истории, письмо, за которое он не несет никакой ответственности, но которым, однако, только и может пользоваться. Так рождается трагедия письма, ибо отныне всякий сознательный писатель вынужден вступать в борьбу с всесильными знаками, доставшимися ему от предков, знаками, которые из недр инородного прошлого нанизывают ему Литературу словно некое ритуальное действо, а не как способ освоиться с жизнью.
Сам писатель, если только он не дерзнет вовсе порвать с Литературой, не в силах разрешить эту проблематику письма. Каждый писатель уже в момент творческого рождения начинает в себе судебный процесс против Литературы; но даже если он и выносит ей обвинительный приговор, то тут же откладывает его исполнение, а Литература пользуется этой отсрочкой, чтобы вновь подчинить себе писателя. Тщетно будет он пытаться создать совершенно свободный язык; последний вернется к нему как продукт производства, а за всякую роскошь полагается платить: писатель вынужден и дальше пользоваться этим отвердевшим языком, замкнувшимся на самом себе под чудовищным напором огромною множества людей, которые на нем не говорят. Существует, следовательно, тупик, в который приводит письмо, и это — тупик, в котором находится само общество; современные писатели чувствуют это: для них поиски не-стиля, устного стиля, нулевой или разговорной степени письма оказываются, в сущности, попыткой предвосхитить такое состояние общества, которое отличалось бы абсолютной однородностью; большинство из них понимает, что без реальной — а отнюдь не мистической или сугубо номинальной — универсальности социального мира не может существовать и универсального языка.
Итак, любому современному письму свойственна двунаправленность: письмо стремится к разрыву с прошлым и в то же время жаждет пришествия будущего; в нем воплощен удел любой революционной ситуации, ее фундаментальная двойственность, требующая, чтобы Революция черпала образы желаемого в той самой действительности, которую она стремится разрушить. Как и все современное искусство, литературное письмо одновременно воплощает в себе и отчуждающую силу Истории, и тоску по этой Истории: будучи олицетворением Необходимости, письмо свидетельствует о расколе внутри языка, неотъемлемом от классового раскола общества; но будучи в то же время олицетворением Свободы, оно предстает как осознание этого раскола и как порыв к его преодолению. Все время чувствуя себя повинным в собственном одиночестве, письмо тем не менее жадно мечтает о том времени, когда слова станут наконец счастливы, оно грезит о языке, чья естественность идеальным образом предвосхитила бы тот новый и совершенный адамов мир, где язык будет свободен от отчуждения. Сам факт умножения разновидностей письма учреждает новую Литературу в той мере, в какой последняя, создавая свой язык, стремится лишь к тому, чтобы быть воплощенной мечтой: Литература становится утопией языка.
Имеется в виду детективный роман А. Кристи "Убийство Роджера Экройда" (1936). - Прим. перев.
Аллюзия на поэтический сборник Р. Шара "Ярость и тайна" (1948). - Прим. перев.