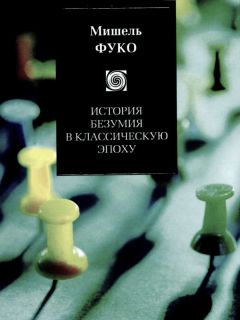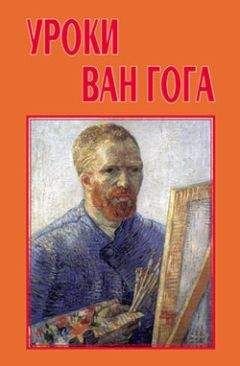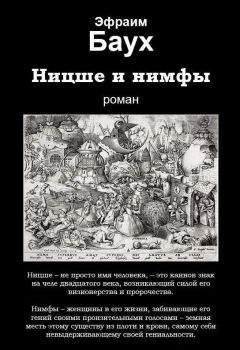“Поверьте моему слову. Ведите себя смирно, положитесь на меня, и я верну вам свободу”. Капитан прислушивается к его словам и спокойно ждет, когда спадут оковы; едва оказавшись на свободе, он стремглав бросается посмотреть на солнечный свет и “восклицает в экстазе:
до чего же хорошо!”. Весь первый день вновь обретенной свободы “он бегает по госпиталю, спускается и поднимается по лестницам и беспрестанно повторяет: до чего же хорошо!”. Вечером он возвращается обратно в камеру и спокойно ложится спать. “В Бисетре он провел еще два года, и за это время с ним ни разу не случилось буйного припадка; он даже стал приносить в доме некоторую пользу, ибо оказывал определенное влияние на безумных, командовал ими по своему усмотрению и превратился для них в надзирателя”.
Следующий случай упоминается в анналах медицинской агиографии столь же часто: это освобождение солдата Шевинье. Он был пьяница, у которого развилась мания величия и который возомнил себя генералом; но Пинель сумел разглядеть в этом мятущемся человеке “прекрасную натуру”; он развязывает ему руки и объявляет, что берет его себе в услужение и рассчитывает на его верность, которой “хороший хозяин” вправе ожидать от признательного слуги. Свершается чудо; в этой покрытой мраком душе внезапно пробуждается добродетель верного слуги: “Никогда еще в сознании человека не происходило столь внезапного и столь глубокого переворота… едва оказавшись на свободе, он стал внимателен и услужлив”; дурная голова сочетается у него с благородным сердцем, и он сам принимается укрощать и смирять ярость других безумцев вместо своего нового хозяина; он, “вчера еще бывший им ровней, говорил им разумные и добрые слова, ибо теперь ощущал себя выше прочих сумасшедших на целую свою свободу”31. В легенде о Пинеле этот добрый слуга до конца остается предан своему господину душой и телом; он заслоняет его собой, когда народ Парижа крушит ворота Бисетра, желая учинить справедливую расправу над “врагами нации”; “он загораживает его своим телом, словно щитом, и принимает на себя удары, чтобы спасти ему жизнь”.
Итак, оковы падают; безумец на свободе. И в тот же миг он вновь обретает разум. Вернее, нет: в нем являет себя не разум, разум-в-себе и разум-для-себя, но уже сложившиеся социальные виды, которые долго дремали под покровом безумия и которые теперь предстают перед нами сразу и целиком, в полном соответствии со своей сущностью, лишенные каких-либо искажений и не строящие гримас. Можно подумать, что безумец, освобождаясь от животного начала, в пределах которого его насильно удерживали оковы, способен обрести человеческий облик лишь в социальном типе. Первый из освобожденных превращается не просто в здравомыслящего человека, а в английского офицера, капитана, который честен перед своим освободителем, как был бы честен с победителем, удерживавшим его в плену под честное слово, который подчиняет себе других людей и властвует над ними благодаря своему авторитету офицера. Его здоровье восстанавливается лишь на уровне этих социальных ценностей, которые, в свою очередь, служат признаками и конкретными свидетельствами выздоровления. Разум этого англичанина не причастен ни к познанию, ни к счастью; он заключается не в правильном функционировании умственных способностей; в данном случае разум — это честь. Разум солдата будет заключаться в верности и самопожертвовании;
Шевинье становится не разумным человеком, но слугой. Его история содержит примерно те же мифологические значения, что и история Пятницы, состоящего при Робинзоне Крузо; отношения, которые устанавливает Дефо между белым человеком, одиноко затерявшимся в природе, и добрым дикарем, — это не отношения двух равных людей, основанные исключительно на непосредственности и взаимности, но отношения господина и слуги, ума и преданности, силы мудрой и силы необузданной, сознательной храбрости и бездумного героизма; короче, это отношения социальные, наделенные литературным статусом и всеми возможными этическими коэффициентами; будучи переложены на язык природы, они становятся непосредственной истиной этого общества на двоих. Те же ценности присутствуют и в рассказе о солдате Шевинье: он и Пинель — это не два узнающих друг друга разума, но два совершенно определенных персонажа, с самого своего возникновения полностью отвечающие готовым социальным типам и строящие свои отношения в соответствии с заранее заданными структурами. Мы видим, как логика мифа берет верх над психологическим правдоподобием и строго медицинским наблюдением; очевидно, что если лица, освобожденные Пинелем, были и в самом деле безумны, то они не могли выздороветь благодаря одному лишь факту освобождения, и их поведение еще долго должно было отзываться сумасшествием. Но для Пинеля важно не это; главное для него состоит в том, что признаками разума служат социальные типы, кристаллизующиеся на самом раннем этапе — как только с безумцем перестают обращаться как с Чужим, с Животным, т. е. как с фигурой, целиком внеположной человеку и человеческим отношениям. Выздоровление безумца означает для Пинеля его устойчивое совмещение с признанным и одобренным моралью социальным типом.
Итак, важно не само освобождение безумцев от оков — эта мера не раз применялась при различных обстоятельствах уже в XVIII в., в частности, в Сен-Люке; важен миф, который придал смысл этому освобождению, который открыл для безумца выход к разуму, насыщенному социально-нравственной тематикой, образами, давно обрисованными в литературе, и который создал в сфере воображаемого идеал психиатрической лечебницы. Лечебницы, которая будет уже не клеткой для человека, предоставленного собственной дикости, а чем-то вроде республики грез, где сложатся прозрачно-ясные, исполненные добродетели отношения между людьми. Честь, верность, храбрость, самопожертвование царят здесь в чистом виде, обозначая одновременно и идеальные формы общества, и критерии разума. Сила этого мифа в том, что он почти эксплицитно — и потому снова возникает необходимость в присутствии Кутона — противостоит мифам революции, сложившимся и оформившимся после террора: республика Конвента — это республика насилия, страстей, дикости;
именно она, сама того не ведая, становится вместилищем всех форм помешательства и неразумия; что же касается республики, стихийно складывающейся в мире безумных, предоставленных собственному буйству, то она полностью очищена от страстей: это прежде всего государство послушания. Кутон символизирует собой ту “дурную свободу”, что пробудила в народе разнузданные страсти и породила тиранию Общественного спасения, — т. е. ту свободу, во имя которой безумцев держат в оковах; Пинель же служит символом “хорошей свободы”, которая, снимая цепи с самых неразумных, самых неукротимых людей, сдерживает их страсти и вводит их самих в спокойный мир традиционных добродетелей. Если выбирать между народом Парижа, вторгающимся в Бисетр и требующим выдать ему врагов нации, и солдатом Шевинье, спасающим Пинелю жизнь, то вряд ли более помешанным и менее свободным можно счесть человека, проведшего долгие годы в госпитале за пьянство, бред и необузданный нрав.
Миф о Пинеле, как и миф о Тьюке, имплицитно содержит в себе дискурсивный процесс, который можно рассматривать одновременно и как описание сумасшествия, и как анализ его преодоления:
1. Изоляция классической эпохи не позволяла относиться к безумию иначе, нежели как к нечеловеческому, животному началу, и безумие не могло высказать свою нравственную истину.
2. Как только эта истина получает свободу самовыражения, она проявляется в форме чисто человеческих отношений, исполненных идеальной добродетели: она есть героизм, верность, самопожертвование и пр.
3. Однако безумие есть порок, неистовство, злоба: лишним тому свидетельством служит ярость революционеров.
4. Освобождение безумных в пределах изоляции, являясь воссозданием социума на основе тематики соответствия социальным типам, не может не повлечь за собой их выздоровления.
Миф об Убежище и миф об узниках, освобожденных от оков, соотносятся в каждом пункте, образуя непосредственную противоположность. Первый выводит на передний план все, что связано с темой первобытной простоты, второй пускает в оборот ясные до прозрачности образы общественных добродетелей. Для первого истина безумия и преодоление его заложены в той точке, где человек едва начинает отделять себя от природы; во втором случае они достигаются в рамках своеобразного социального совершенства, идеального функционирования человеческих отношений. Однако эти две темы были в XVIII в. слишком близки, а зачастую и неразделимы и потому не могли иметь у Тьюка и Пинеля принципиально различный смысл. И в том и в другом случае перед нами попытка совместить определенную практику изоляции с великим мифом об отчуждении в сумасшествии, мифом, который несколько лет спустя сформулирует Гегель, чьи теоретические построения суть в прямом смысле результат того, что происходило в Убежище и в Бисетре. “Подлинная психиатрия (psychische Behandlung) придерживается поэтому той точки зрения, что помешательство не есть абстрактная потеря рассудка — ни со стороны интеллекта, ни со стороны воли и ее вменяемости, — но только помешательство, только противоречие в еще имеющемся налицо разуме, подобно тому как физическая болезнь не есть абстрактная, т. е. совершенная, потеря здоровья (такая потеря была бы смертью), но лишь противоречием в нем. Это гуманное, т. е. столь же благожелательное, сколь и разумное, обращение с больным… предполагает, что больной есть разумное существо, и в этом предположении имеет твердую опору, руководясь которой можно понять больного именно с этой стороны”32. Классическая изоляция породила состояние отчуждения в сумасшествии, существовавшее только для внешнего наблюдателя, только для тех, кто подвергал безумных изоляции и видел в заключенном лишь Чужого или Зверя; Пинель и Тьюк, совершив простые операции, в которых позитивистская психиатрия парадоксальным образом усмотрела источник своего происхождения, интериоризировали отчуждение, ввели его в пределы изоляции, ограничили его дистанцией, отделяющей безумца от самого себя, и тем самым превратили сумасшествие в миф. О чем же, если не о мифе, можно вести речь, когда теоретический концепт выдается за природу, воссоздание моральных норм — за освобождение истины от скрывавшего ее покрова, а стихийным излечением безумия считается процесс, благодаря которому оно, быть может, всего лишь незаметно вводится в границы искусственно созданной реальности?