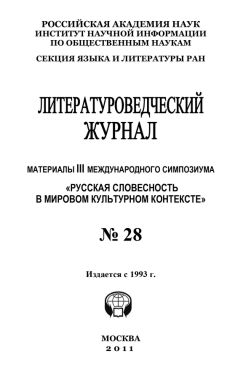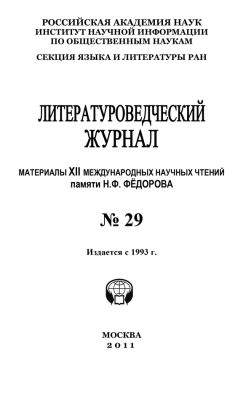Попутно заметим, что уже во второй половине 1850-х годов имя Руссо уходит со страниц дневника и перемещается в сферу художественно-религиозную и в черновые варианты. В одной из редакций «Воскресения» Толстой пишет о Нехлюдове: «Он прочел тогда в первый раз Confessions Руссо, знаменитую первую его речь, Эмиля и Profession de foi d’un vicaire savoyard. И в первый раз он понял христианство и решил, что он будет жить так, как <…> говорило ему его сердце. Он тогда составил себе правила жизни, которые должны были совершенствовать его тело и душу, и старался следовать им. Надо было быть внимательным и добрым ко всем людям, быть воздержанным и деятельным» (33, 136). Автобиографичность контекста не вызывает сомнений.
В толстовской художественно-философской системе имеется замысел образа, который можно условно назвать руссоистским, созданным как бы по Руссо. В незаконченной повести «Мать» некоторые штрихи облика главной героини присущи самому Толстому: «Я знал ее – не скажу свободомыслие – она никогда не выставляла его, – но смелость и здравомыслие. Полнота чувства, заполнявшего все ее сердце, не давала места суевериям. Знал я ее отвращение ко всякому лицемерию и фарисейству. <…> Она была человек сердца, а по уму совершенный скептик» (29, 251). В образе Петра Никифоровича также имеются автобиографические подробности, особенно слова, что он «был человеком того же склада ума», что Руссо, могут относиться к Толстому. «Мы говорили о нем (о Петре Никифоровиче. – А.П.), о его взглядах на жизнь, которые я знал и разделял в то время. Он был – не сказать поклонник Руссо, хотя знал и любил его, но был человеком того же склада ума. Это был человек такой, какими мы представляем себе древних мудрецов. При этом с кротостью и смирением бессознательного христианства. Он был уверен, что он терпеть не может христианского учения, а между тем вся его жизнь была самоотвержением. Ему, очевидно, было скучно жить, если он не мог чем-нибудь жертвовать для кого-нибудь и жертвовать так, чтобы ему было трудно и больно. Только тогда он был доволен» (29, 251).
Что касается «Исповедания веры савойского викария», то сколько бы раз писатель не перечитывал его, всякий раз чтение вызвало в нем «пропасть дельных и благородных мыслей» (46, 167). Судя по запискам Д.П. Маковицкого, Толстой часто перечитывал отрывок из «Исповедания савойского викария»6, иногда вслух, в семейном кругу и мог очень легко найти в оригинале «Эмиля» места, напечатанные в «Круге чтения»7.
«Рассуждение Руссо о нравственных преимуществах дикого состояния над цивилизованным» еще в молодости пришлось ему «по сердцу»8. Он «как будто читал свои мысли и только кое-что мысленно прибавлял к ним»9. Уже тогда это было больше похоже на узнавание, чем на влияние.
Несмотря на то что Толстой признался в письме к Б. Бувье, что Руссо был его учителем с 15-летнего возраста (75, 234–235), а в письме к М.М. Ледерле, что «Исповедь» и «Эмиль» произвели на него «огромное», а «Новая Элоиза» «очень большое» (66, 67) впечатление, был ли он прямым учеником или последователем Руссо? Действительно, Толстой не только восхищался им, он боготворил его, с пятнадцати лет носил на груди медальон с его портретом как образок. Перечитывая некоторые из его произведений, он испытывал то же чувство подъема духа и восхищения, которое он испытывал, читая его в ранней молодости. И то же время, как независимый мыслитель, он мог попасть под влияние чьих-либо идей только в том случае, если они совпадали с его собственными, слагавшимся в нем независимо от кого-либо, выраставшим в нем из глубин его жизни. Но направление мысли, так ярко заявленное Руссо, было воспринято Толстым как свое собственное. Творческая встреча Толстого и Руссо напоминает знаменитые слова Мишеля Монтеня, который о своей дружбе с Ла Боэси пишет в «Опытах»: «Потому, что это был он, и потому, что это был я»10.
Поздний Толстой знал, что его сравнивают с Руссо, и в дневнике записал: «Меня сравнивают с Руссо. Я много обязан Руссо и люблю его, но есть большая разница. Разница та, что Руссо отрицает всякую цивилизацию, я же отрицаю лжехристианскую» (55, 145). То есть, как отметил еще Н.А. Бердяев, Толстой отрицает «безбожную цивилизацию, которая является неизбежным результатом культуры, отделившейся от жизни»11. По его мнению, «нравственное и религиозное сомнение Толстого в оправданности культуры и культурного творчества было характерно русским сомнением, русской темой»12.
Будет небезынтересно отметить, что в художественных и религиозно-философских произведениях Толстого цитат Руссо нет. Исключение составляет «Круг чтения» и письмо «Федерации лиг единого земельного налога в Австралии», в котором речь идет об уничтожении «земельной собственности». В нем приведена знаменитая цитата из «Рассуждения о происхождении неравенства»: «Несправедливость и зловредность земельной собственности, – пишет Толстой, – признавалась давно. Еще более ста лет тому назад великий французский мыслитель Жан Жак Руссо писал: «“Тот, кто первый, огородив кусок земли, решился сказать: “эта земля моя” и встретил людей столь простых, что они могли поверить этому, – этот человек был первый основатель того гражданского общества, которое существует теперь. От скольких преступлений, войн, убийств, ужасов избавил бы человечество тот, кто, вырвав колья и заровняв канаву, сказал бы “берегитесь, не верьте этому обманщику, вы пропали, если забудете, что земля не может принадлежать никому и что дары ее принадлежат всем”» (78, 221). Этот отрывок процитирован также в «Круге чтения» (42, 52).
По мысли Руссо, частная собственность – основа гражданского общества и главная причина социального неравенства. Неравенство порождает деградацию общественных нравов. Возникают праздность и роскошь, это ведет к развращению нравов. Социальное неравенство порождает деградацию общественных нравов. Руссо провозгласил идею естественного равенства как принцип здравого смысла; он сторонник естественного права, его идеал – далекое прошлое. Эти идеи близки воззрениям Толстого, они нашли свое выражение в «Анне Карениной», «Воскресении», в рассказе «Зерно с куриное яйцо», в трактате «Так что же нам делать?», в статье «Великий грех», в дневниках и в письмах, в устных высказываниях. Основная идея всех этих текстов: «“La propriété c'est le vol” (Собственность – это воровство [фр.]) останется больше истиной, чем истина английской конституции» (48, 85). «Земля – Божья и никому в собственность принадлежать не должна. Владеть землею как собственностью – великий грех» (82, 37). «Собственность, ограждаемая насилием – городовым с пистолетом, – это зло» (49, 60). Он пришел к выводу, что «что если бы было установлено отсутствие собственности земли, а принадлежность ее тому, кто ее обрабатывает, то это было бы самым прочным обеспечением свободы» (54, 97).
Размышления о социальном прогрессе укрепили Толстого в мысли о том, что человечество ни физически, ни духовно не становится здоровее. Отсюда его идеализация патриархального быта. На эту тему написана притча «Зерно с куриное яйцо» (1886), идея которой об «уходе от естественной жизни», перекликается с призывом Руссо «Назад, к природе!». То есть к тому, что соответствует требованиям «совершенной» природы человека. В рассказе уже нет той несовместимости патриархальных идеалов и беспокойной деятельности разума – основной темы и противоречием романа «Анна Каренина». В «Зерне с куриное яйцо» мотив сопоставления прошлого и настоящего, «прежде» и «теперь» связан со стремлением к естественности, с идеализацией патриархальности. «Старина», «прежде», прошлое – это «потерянный рай», «естественное состояние»: «Земля Божья: где вспахал, там и поле. Земля вольная была. Своей землю не звали. Своим только труды свои называли» (25, 66). Тезис «земля Божья» сопрягается с принципом собственности Руссо «земля ничья»: «плоды земли – для всех, а сама она – ничья»13. В рассказе противопоставляются три старика: дед, сын и внук. Дед – «старик <…> без костылей; вошел легко; глаза светлые, слышит хорошо и говорит внятно» (25, 65). Сын – «старый старик на одном костыле», царь ему зерно показал, он «еще видит глазами, хорошо разглядел» (25, 65). Внук – «старик, зеленый, беззубый, насилу вошел на двух костылях» (25, 64). На вопрос царя «отчего твой внук шел на двух костылях, сын твой пришел на одном костыле, а ты вот пришел и вовсе легко; глаза у тебя светлые, и зубы крепкие, и речь ясная и приветная?» (25, 66), дед отвечает: «Оттого, что перестали люди своими трудами жить, – на чужое стали зариться. В старину не так жили: в старину жили по-Божьи; своим владели, чужим не корыстовались» (25, 66). «Теперь» – это время, когда разорвана связь между явлением и сущностью, люди друг от друга отчуждены, они «перестали <…> своими трудами жить, – на чужое стали зариться» (25, 66). Открытая Толстым-Левиным истина в словах Фоканыча «жить по-Божьи» стала главным мотивом рассказа «Зерно с куриное яйцо». Из противопоставления естественного состояния и социального прогресса видна идеализация прошлого, «старины», «патриархальности», естественного состояния, любимой идеи Руссо.