Расходились Чернышевский и Герцен и в понимании роли России и Запада в историческом процессе. Герцен полагал: «Мы свободны от прошлого, ибо прошлое наше пусто, бедно и ограничено» (VII, 242). С этим связана и его идея о конце Европы, во всяком случае о ее неспособности вступить в новую социальную жизнь, в отличие от России, к этому способной. Западу мешает «привычка к своему богатству» (XIV, 44). А «у нас нигде нет этих наглухо заколоченных предрассудков, которые у западного человека, как параличом, отбивают половину органов. В основе народной жизни лежит сельская община — с разделением полей, с коммунистическим владением землею, с выборным управлением, с правомерностью каждого работника (тягла). Все это находится в состоянии подавленном, искаженном, но все это живо и пережило худшую эпоху» (XII, 430). Строй жизни русских крестьян, по Герцену, и есть тот самый строй жизни, который ищет Европа, он присущ русскому крестьянству искони, надо только сознательно развивать этот элемент.
Отвечая на мысль Герцена о свободе России от прошлого, Чернышевский писал: «Мы также имели свою историю, долгую, сформировавшую наш характер, наполнившую нас преданиями, от которых нам так же трудно отказываться, как западным европейцам от своих понятий; нам также должно не воспитываться, а перевоспитываться» (Чернышевский, VII, 616). И далее перечисляет все эти принципы, воспитанные веками крепостного права, начиная от привычки к бесправию до привычки все решать волевым усилием, «силою прихоти»[82]. Именно в силу этих «привычек», полагал он, России будет трудно воспользоваться идеями и опытом Запада и гуманизировать культуру, поднять ее до высот предлагаемых ей историей задач.
По поводу рассуждений о «закате Европы» и уподобления этого процесса гибели «Древнего Рима» Чернышевский предлагает свою схему исторического процесса, весьма внятную и работающую доныне. В своей статье «О причинах падения Рима» он весьма резко делит историю человечества на периоды цивилизованный и варварский. Варвары и цивилизованные люди, разумеется, могут сосуществовать во времени и пространстве, более того, варвары, которые отождествляются им со стихийной природной силой наподобие наводнения, потопа, урагана или землетрясения, вполне могут разгромить народ цивилизованный (как германцы Древний Рим), точно так же, как молния может убить человека. Но Чернышевский сомневается, могут ли варвары привнести новое, прогрессивное начало в историю: «Вольные монголы и Чингиз — хан с Тамерланом, вольные гунны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом» (Чернышевский, VII, 659). Отождествляя варварство с состоянием хаоса, разбоя, брожения, он безусловно отрицал возможность того, чтобы это состояние общественной жизни было способно выработать хотя бы самые отдаленные намеки на права отдельной личности, отдельного человека. Скорее, это заслуга народов цивилизованных, и вне цивилизации право личности утвердить не удастся. Не случайно только спустя тысячу лет после падения древнего мира в Европе, в эпоху Возрождения, пробуждается личность, и связан этот процесс не в последнюю очередь с воскрешением разрушенной варварами античной культуры. Отсюда следовало, что не стоит хвалиться варварством, нецивилизованностью, «свежей кровью», а надобно прежде просветить и цивилизовать свой народ.
Иначе он трактовал и проблему общины. Общинный принцип земледелия, считал Чернышевский, — до поры до времени хорош для России, но никоим образом не годится Западу. «Европе, — писал он, — тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники». Что же касается современного им Запада, то собственно народ «еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие уже действует на исторической арене <…>, а главная масса еще и не принималась за дело…» И резюмировал, обращаясь к Герцену: «Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить» (Чернышевский, VII, 663, 666). Действительно, говорить о Европе Бальзака, Стендаля и Гюго, Диккенса и Теккерея, Гейне, Ницше, Маркса и Энгельса, Европе, шедшей к второй промышленной революции, наконец, Европе, давшей приют изгнанникам и поддержавшей их свободное слово, как о типе культуры, пришедшей в упадок и идущей к своей гибели, было по меньшей мере неисторично.
На статью Чернышевского Герцен ответил не сразу, видно, что текст оппонента задел его, спустя только несколько лет ответил книгой «Концы и начала» (1863), где с еще большим упорством писал о том, что мещанский Запад больше ни на что не способен. А в статье 1859 г. «Very dangerous!!!» почти прямым текстом обвинял Чернышевского в сервильности. При этом Огарев писал, что «чистое искусство» вышло из диссертации Чернышевского, а Герцен обвинял его в подыгрывании правительству: «Милые паяцы наши забывают, что по этой скользкой дороге можно досвистаться не только до Булгарина и Греча, но (чего Боже сохрани) и до Станислава на шею!» (XIV, 121).
Чернышевский, однако, был арестован, приговорен к каторге, тем самым поневоле (может, и против воли?) вынужден был попасть в иконостас русских революционеров, который столь настойчиво создавали лондонские изгнанники. И стать поводом к новому революционному призыву: «Проклятье вам, проклятье — и, если возможно, месть!» (XVIII, 222). Прозвучал здесь и намек на сравнение Чернышевского с Христом, поскольку Христос для Герцена — тоже революционер, как мы уже писали: Надо заклеймить, писал он, тупых злодеев, «привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста» (XVIII, 222).
Стоит отметить, что после гражданской казни Чернышевского он попытался остановить молодых террористов: «А потому мы и обращаемся к “Молодой России”. Она думает, что “мы потеряли всякую веру в насильственные перевороты”». Но, возражает Герцен, «не веру в них мы потеряли, а любовь к ним» (XVI, 221). И все же чуть позже Герцену показалось, что иного пути в России нет, тогда принял он «Молодую Россию», с которой Чернышевский полемизировал. «Правительство гонит молодое поколение потому, что оно его боится, оно уверено, что пожар был от “Молодой России” и что еще две — три прокламации — и в Петербурге настал бы 93–й год. Правительство до “Молодой России” и после “Молодой России” вовсе не похожи друг на друга — она действительно произвела переворот» (XVIII, 287). Прокламации, однако, сообщали, что перерезать несколько миллионов людей ради торжества справедливости — пустяк, что французские революции оказались слишком трусливыми, мещанскими, чтобы совершить такое. Но Россия сможет. Путь к нечаевщине здесь уже намечен.
8. Герцен как прототип одного из героев Достоевского
Уже при жизни он становится предметом интереса художников. Его портреты рисуют живописцы, намеками проскакивает его образ а «Загадочном человеке» Н. Лескова, какие‑то оттенки его образа художественно переосмыслены в образе Версилова у Достоевского («Подросток»). Но там лишь можно угадывать, да и многое не сходилось, хотя достоеведы писали об этом не раз. Впрочем, после работы А. Гачевой убедительно соотнесшей образ Версилова с Тютчевым как реальным прототипом, можно считать тему прототипа главного героя «Подростка» решенной.
Надо сказать, сам Герцен был не против увидеть себя героем художественного произведения, но именно Героем. Он поверял жизнь искусством, а искусство жизнью в ее революционном развитии. Все образы русской литературы, от Чацкого и Онегина до Обломова и Базарова, воспринимались им лишь как этапы революционного развития общества. Не случаен его упрек Тургеневу по поводу образа «отцов» Кирсановых. Основной смысл этого упрека в том, что писатель не выбрал для изображения отцов подлинных деятелей 40–х годов, настоящих революционеров, отсылает Тургенева к опыту биографии Огарева и своей: «Кирсановы — самые стертые и пошлые представители отцов… Что бы ему (Тургеневу. — В. К.) было прислать Базарова в Лондон?.. Мы, может быть, доказали бы ему на берегах Темзы, что <…> у Рудиных и Бельтовых иной раз бывает и воля, и настойчивость и что, видя невозможность деятельности, к которой они стремились по внутреннему влечению, они бросали многое, уезжали на чужбину и заводили, “не метавшись и не суетясь”, русскую книгопечатню и русскую пропаганду» (XX, 1, 339–340). В требовании изображать жизнь в ее революционном развитии виден прямой путь, если говорить об общественно — эстетических традициях, к идеям социалистического реализма, коего Герцен в XIX веке, похоже, был крупнейший теоретический предшественник.


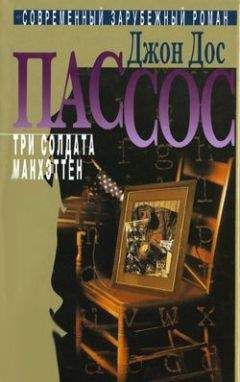
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)

