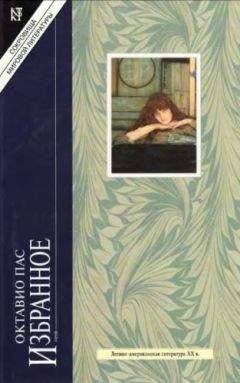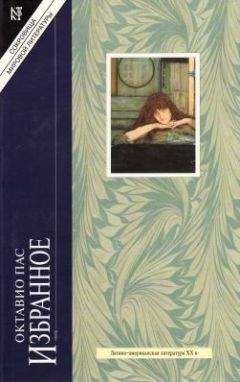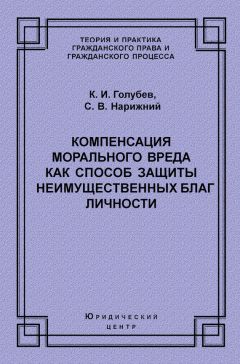Для внешнего взгляда никакой трещины в отношениях поэзии с историей нет: стихи — детище социума. Даже если поэзия, как сейчас, в раздоре с обществом и выдворена за его пределы, стихи не порывают с историей. Историческим свидетельством остается их неприкаянность. В расколотом обществе и не может быть иной поэзии, чем наша. С другой стороны, государства и Церкви веками вербовали себе на службу голос поэта. Чаще всего даже не прибегая к насилию. Поэты отождествляли себя с данным обществом, без колебаний освящая словом действия, навыки и учреждения эпохи. Сан-Хуан де ла Крус, несомненно, полагал, что служит — и взаправду служил — вере своими стихами, но разве можно свести неисчерпаемое чудо его лирики к тем вероучительным объяснениям, которые он дает в комментариях? Басе{84} не написал бы ни строчки, не живи он в Японии XVII века, но обязательно ли верить в рецепты дзэн-буддистского озарения, чтобы потеряться в замершем на века бутоне трех строк его хайку? Двузначность стихов связана не с историей, если понимать ее как единую и целостную реальность, охватывающую все сотворенное, она — в двойственной природе поэзии. Конфликт здесь не в истории, а внутри самого стихотворения: за ним — двуплановость творческого начала, стремящегося и преобразить историческое время в архетипическое, и воплотить этот архетип в заданных исторических обстоятельствах.
В этой двойственности — истинная и парадоксальная суть поэзии. Способ ее существования в истории внутренне драматичен. Это всегда утверждение отрицаемого — изменчивости и неповторимости времени.
Поэзия — не чувство, а речь. Или лучше сказать: чувство в поэзии определяется речью. Но всякая речь — это речь о чем-то. Поэтическая — не исключение. Поэт говорит о себе и своем мире, даже говоря о чужом: ночные образы созданы из осколков дневных, преображенных по иным законам. Поэт не порывает с историей, даже опровергая или сторонясь ее. Самый заветный, самый личностный опыт преображается в общепризнанное, историческое слово. В то же время — и теми же словами — поэт говорит иное. Открывает человеку человека. В этом откровении — последний смысл любых стихов; о нем редко говорят впрямую, но именно им жива поэтическая речь. Образы и ритмы так или иначе воплощают это откровение, все вместе отсылая уже не к тому, о чем прямо говорят слова, а к тому, что до всяких слов и само служит опорой любому слову в поэзии, — к последнему предназначению человека, этой силе, вновь и вновь толкающей его вперед, к еще не виданным землям, которые, стоит их коснуться, тут же обращаются в прах, чтобы возродиться, сгинуть и без конца возрождаться снова. Но откровение поэта всегда воплощено — в стихах, в каждом их точном и единственном слове. Иначе поэтическое причастие невозможно: чтобы слова говорили о «другом», воплощенном во всем стихотворении, они обязаны говорить о данном.
Внутренняя раздвоенность стихотворения{85} — его природное свойство, а не просто разлом. Стихи становятся целым только при полном слиянии противоположностей. Не два разных мира борются в них — они в борьбе с собою. Этим и живы. Но отсюда же, от непрерывной внутренней вражды, которая внешне выглядит высшим единством, сплошным и точеным монолитом, и так называемая общественная ненадежность поэзии. Неся свою жертву на общий алтарь и всем сердцем разделяя верования эпохи, поэт все-таки остается в стороне, вечный раскольник, чья прирожденная судьба — говорить не то, даже говоря буквально то же самое, что любой вокруг. За недоверием поэту со стороны государства и Церкви не только их естественная жажда единовластия. Подозрительна сама суть поэтической речи. И даже не то, что поэт говорит впрямую, а то, что подразумевает сама речь, ее предельная и неустранимая двойственность, всегда придающая словам поэта вкус свободы. Постоянные упреки поэтам — беззаботным, рассеянным, отсутствующим, не от мира сего — связаны именно с этим обстоятельством. Поэтическое слово и впрямь не принадлежит этому миру до конца: оно всегда уводит за его пределы, к иным землям, иным небесам, иной правде. Поэзия опровергает закон исторического тяготения, никогда целиком не принадлежа истории. Ни один образ не сводится к раз и навсегда определенному смыслу. Он может значить совершенно противоположное. Либо и то и другое. Или еще пуще: то и будет означать другое.
Но двойственно ведь не только поэтическое слово, но и сама природа человека — существа временного и вместе с тем всегда устремленного к абсолюту. Этот конфликт и порождает историю. Человек не исчерпывается убогой последовательностью часов, простым отбыванием жизненного срока. Сведи мы сущность истории лишь к замещению одного мига, одного человека, одной культуры любыми другими, мир обернулся бы единообразной массой, а история слилась бы с природой. В самом деле, при всех тонких различиях сосна равна сосне, а собака — собаке. В истории все наоборот: сколько ни будь в них общего, один исторический момент не равен другому моменту. И мгновение мгновением, а время временем делает сам человек, сливаясь с ними и обращая каждый миг в единственный и непревзойденный. Материя истории — деяние, героический шаг, сплав особых мгновений, поскольку человек создает из каждого мира самодостаточную сущность, отделяя этим вчерашний день от сегодняшнего. В каждый миг он хочет воплотиться целиком, любое его мгновение — рукотворный памятник мимолетной вечности. Преодолеть временность своего существования он может лишь одним способом — с головою уйдя в стихию времени. Победа над временем — в слиянии с ним. Не достигая вечности, человек творит единственный и неповторимый миг, давая этим начало истории. Удел заставляет его быть другим, и только так он может взаправду стать собою, словно мифический грифон из XXXI песни «Чистилища», который «стоял неизменный,//А в отраженье облик изменял».[19]
В опыте поэзии человеку открывается его удел, задача непрестанного преодоления себя, без чего не осуществить предназначенную ему свободу. Свобода составляет внутреннюю тягу всего живого, постоянный выход за собственные пределы, и это всегда тяга к чему-то — устремленность к той или иной ценности, тому или иному опыту. Такова и поэзия, воплощенное время. Ее отличительная черта — речь, а любая речь — это речь о чем-то. О чем? Во-первых, о принадлежащем истории и подвластном датировке, что и подразумевает поэт, говоря о любви к Галатее, осаде Трои, смерти Гамлета, вкусе вина в сумерках или оттенке облака над морем. Поэт всегда освящает исторический опыт — личный, общественный, тот и другой разом. Но, ведя речь об этих мгновениях, чувствах, событиях и героях, поэт говорит еще и о другом — о творимом в эту секунду, о происходящем с нами и в нас. Говорит о самих стихах, акте их созидания, обретении имени. Больше того, нам предстоит воспроизвести, воссоздать его стихотворение, вновь назвав названное им и тем самым уяснив самих себя. Я меньше всего имею в виду, будто поэт создает стихи из стихов или, говоря о чем-то, вдруг сворачивает на толки о собственной речи. Нет, воспроизводя его слова, мы еще раз воссоздаем случившееся с ним и этим осуществляем свободу — подлинный свой удел. Мы тоже сливаемся с мигом, чтобы преодолеть его уже иными, тоже делаемся другими, чтобы стать собой. Читатель воспроизводит запечатленный опыт. Разумеется, не буквально, но в этом и ценность. Может быть, читатель поймет написанное не до конца: стихи могут быть созданы много лет или веков назад, а разговорный язык за это время изменился, либо же они сложены в отдаленных краях, на ином языке. Но все это в конечном счете не так важно. Если поэтическое причащение взаправду произойдет, если, хочу я сказать, прочитанные стихи не перестали быть откровением, а читатель не утратил способность входить в их магнитное поле, акт воссоздания не может не совершиться. И как при всяком воссоздании, стихи читателя не будут простым сколком с написанного поэтом. Не дублируя сказанного о предмете, они повторяют сам акт творчества. Читатель воссоздает пережитый поэтом миг и этим вновь создает себя.
Стихотворение никогда не завершено и обязательно должно быть дополнено, пережито каждым новым читателем. Новизна великих поэтов прошлого — в их умении стать другими, не поступаясь собой. О чем бы ни говорил поэт (о розе, смерти, закате солнца, осаде крепости, о стягах), все обращается для читателя главным, самой подспудной основой поэзии и корнем поэтического слова — откровением нашего удела, принятием его на себя. Откровение это не в знании и не в знаниях, тут полезней философия. Перед нами же возвращение к сути, которую открывает в нас поэт. Поэзия не судит, оставаясь непостижимой и самодостаточной, почему и не переходит в абстракцию. Она не со стороны объясняет нам наш удел, но дает пережить опыт, в котором он сам выявляется или обнаруживается. Поэтическое высказывание всегда конкретно. И опыт, даруемый поэзией автору или читателю, не поучает свободе и не сообщает о ней: это сама свобода, открывающаяся ради того, чтобы мы достигли цели и на миг осуществились. Бесконечное разнообразие стихов за всю историю человечества как раз и связано с конкретностью каждого поэтического опыта. Он всегда опыт наличного. Но при всем разнообразии перед нами единство, поскольку в любой данности открывается наш человеческий удел. Удел не сливаться ни с одним воплощением и существовать, лишь перевоплощаясь в иное…