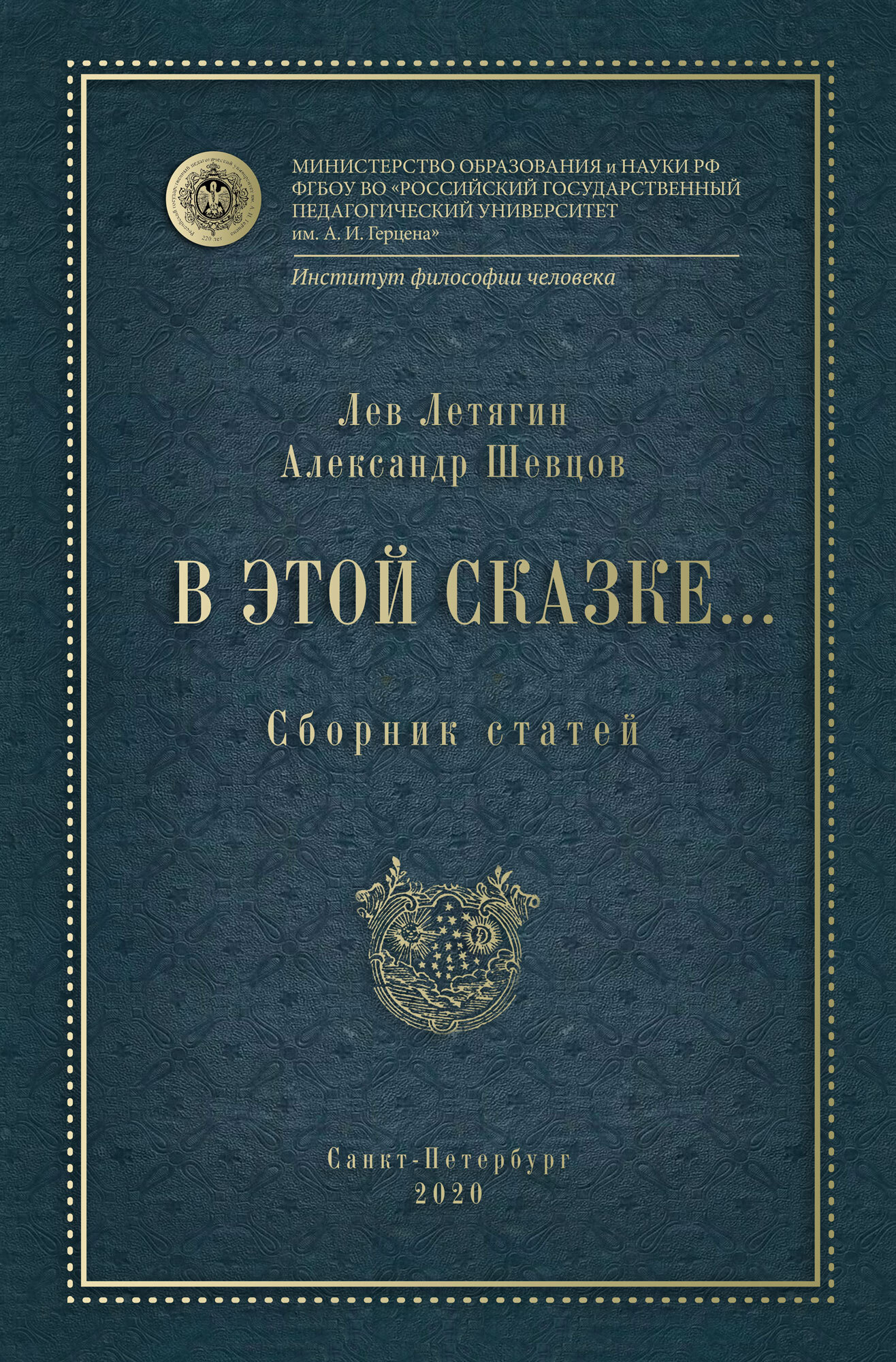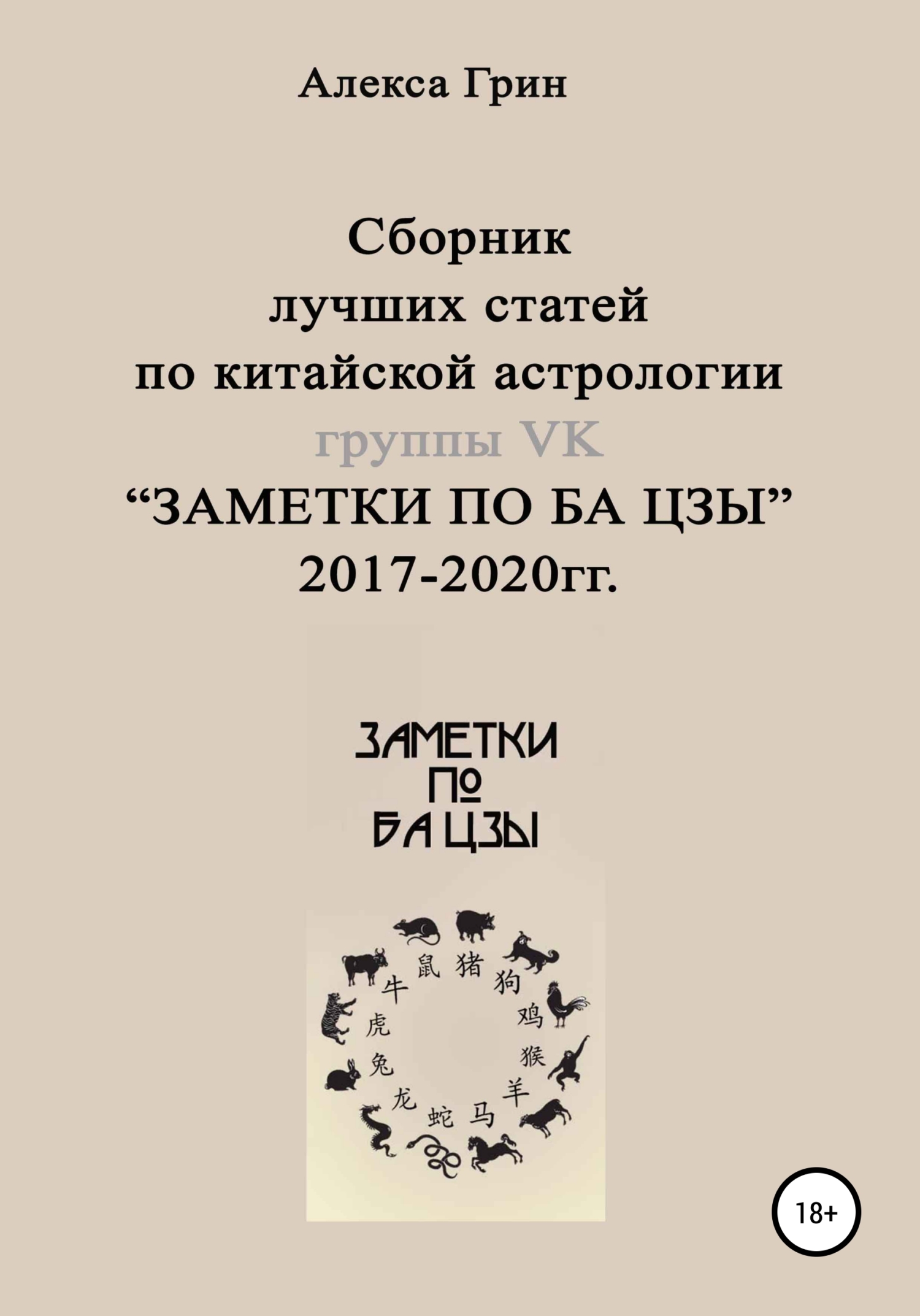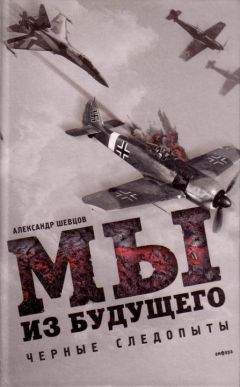инициацию на новом уровне. Но в этой статье я говорю о том, как жила волшебная сказка в культуре устного сказывания.
Волшебная сказка предназначалась для сказывания. Причем, сказывать ее должен мудрый человек человеку молодому, юному, даже ребенку. То есть человеку, вступающему в новый и неведомый ему мир, в котором его поджидают не только опасности, но и выборы. Выборы путей к целям, которые уже есть в мире.
Мир определяет нам, что является ценностями, за которые стоит бороться. Но при этом он всегда содержит несколько путей к этим целям, хотя не все эти пути очевидны и даже видны. Но от того, какими путями ты избираешь добиваться этих ценностей, зависит не только твоя нравственность, но и само устройство общества. Общество, в которое собрались люди, предпочитающие определенные пути, отличается от всех прочих обществ.
Поэтому сказка не просто ставит ребенка, проживающего ее приключения, перед выбором. Нет, она не дает свободного выбора, она требует, чтобы ребенок избрал вполне определенный путь, который и считается человеческим. Более того, сказка не только требует избрать действовать как человек, она закрепляет этот выбор, переводя в измененное состояние сознания. Иными словами, это очень глубинный выбор.
Что это за измененное состояние? Думается, в точности такое же, как и при молодежных инициациях. Только ослабленное, разнесенное на множество легких воздействий, поскольку они оказываются в течении множества прослушиваний сказки, а не за один обряд. Иначе говоря, воздействие сказки воспринимается сознанием не через проживание, а через переживание или даже сопереживание герою.
Какое воздействие оказывалось при прохождении инициации? В. Я. Пропп в «Исторических корнях волшебной сказки» на материале этнографии показывает, что именно оно стало важнейшей частью всех волшебных сказок:
«Обряд всегда совершался в глубине леса или кустарника, в строгой тайне. Обряд сопровождался телесными истязаниями и повреждениями (отрубаниями пальца, выбиванием некоторых зубов и др.). Другая форма временной смерти выражалась в том, что мальчика символически сжигали, варили, жарили, нарубали на куски и вновь воскрешали.
Воскресший получал новое имя, на кожу наносились клейма и другие знаки пройденного обряда. Мальчик проходил более или менее длительную и строгую школу. Его обучали приемам охоты, ему сообщались тайны религиозного характера, исторические сведения, правила и требования быта и т. д. Он проходил школу охотника и члена общества, школу плясок, песен и всего, что казалось необходимым в жизни» (Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. – СПб.: изд. СПБУ, 1996, с. 56).
Мы видим, что пережить такое было бы не просто. Никакие экстремальные виды современных развлечений не дают всего комплекса ощущений и переживаний, которые испытывал проходивший инициацию в традиционном обществе родового строя. А Пропп вполне доказательно утверждает, что именно это описывается в волшебной сказке. Значит, мы можем видеть сказку ослабленным обрядом инициации, дающим школу всего того, что «казалось необходимым в жизни».
В сущности, это обряд второго рождения, то есть перерождения в иное по сравнению с исходным, биологическим состоянием.
«Этим обрядом юноша вводился в родовое объединение, становился полноправным членом его и приобретал право вступления в брак. Такова социальная функция этого обряда. Формы его различны, и на них мы еще остановимся в связи с материалом сказки.
Формы эти определяются мыслительной основой обряда. Предполагалось, что мальчик во время обряда умирал, а затем вновь воскресал уже новым человеком» (т. ж.).
Высказав мысль, что формы сказки, то есть способы воздействия, определяются мыслительной основой обряда, Пропп вплотную подошел к наблюдению, которое в 1929 году сделал Андре Иоллес, подметивший, что главное отличие сказки от мифа в том, что в сказке все так, как должно быть. Иначе говоря, сказка всегда соответствует нашим ожиданиям, ожиданиям слушающего.
Но Пропп, хотя и много думал о психологии сказки, пошел в своем исследовании другим путем, который он считал психологическим. На деле этот путь был впоследствии признан структуралистским, хотя сам Пропп к структурализму себя не относил. Он говорит о морфологии, как о науке о формах, а то, что определяет наши поступки, он называет функциями. Функциям соответствуют формы.
«Отметая все местные, вторичные образования, оставив только основные формы, мы получим ту сказку, по отношению к которой все волшебные сказки являются вариантами» (Пропп В. Я. Морфология сказки. – Л.: ACADEMIA, 1928, с. 98).
Именно изучение этой Первосказки, или Основы всех волшебных сказок, приводит Проппа к утверждению:
«С точки зрения исторической это означает, что волшебная сказка в своих морфологических основах представляет собою миф» (т. ж., с.100).
Такое утверждение с неизбежностью ставит нас перед вопросом: а какой именно миф? Современные исследователи сказки, безусловно, признают, что сказки могут содержать в себе куски различных мифов, но Пропп ведь говорит не об этом, а о том, что сама по себе Первосказка есть переложение некоего вполне определенного мифа.
Впоследствии Пропп не будет столь категоричен, и в «Исторических корнях…» он всего лишь исходит из задачи «привлечь миф как один из возможных источников сказки» (Исторические корни…, с. 27). Но в «Морфологии сказки» он находится под очарованием поразившей его воображение гипотезы, и потому делает смелые предположения:
«Но все-таки хочется поставить вопрос: если все волшебные сказки так единообразны по своей форме, то не значит ли это, что все они происходят из одного источника?» (Морфология сказки, с. 116).
Это положение он уточняет:
«Единый источник» не означает непременно, что сказки пришли, напр., из Индии и распространились отсюда по всему миру, приняв при странствии своем различные формы, как это допускают некоторые.
Единый источник может быть и психологическим» (т. ж.).
Однако психология не была его коньком, да и понимал он ее в духе исторической психологии Вундта. Поэтому окончательным ответом становится все же некий миф. И миф вполне определенный:
«Таким образом можно предположить, что одна из первых основ композиции сказки, а именно странствование отражает собой представления о странствовании души в загробном мире» (т. ж., с. 117).
Это утверждение вплотную подводит нас к изысканиям петербургского мифолога Александра Зайцева, который связывал происхождение сказки с орфизмом. Причем, как географически, поскольку ореол распространения сказки совпадает с ореолом распространения орфизма, так и содержательно. Но с поправкой на соображения Иоллеса.
Миф об Орфее, как и сказка об «Амуре и Психее», – это миф о странствовании души в загробном мире, но миф кончается плохо, а сказка – так, как должно быть.
Пропп еще не понимал этой разницы между сказкой и мифом. Поэтому в «Исторических корнях…» он пишет: