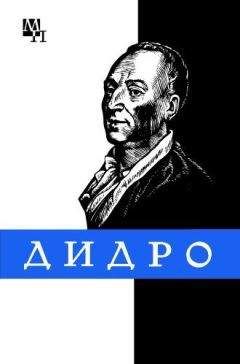Я уже не говорю о многих новшествах в области реальных отношений, например, в женском вопросе, в области воспитания детей, ну и так далее. А исторические традиции? Сколько здесь было нового! Можете вы себе представить, милый дедушка, чтобы Ленин занялся восхвалением «прогрессивного войска опричников»? Кто–нибудь скажет, что это уже не новаторство, а восстановление старины. Как хотите разбирайтесь, а я думаю, что крайности сходятся, ну а корень один — привычка землю дыбом становить. Сначала, конечно, бывает избыток новаторства, потом уже этот запал переходит в нечто прямо противоположное, и так можно до опричников или до самого Чингисхана дойти.
Вот некоторые все обижаются, что дома с колоннами строили, а того не видят, что колонны ставили не просто, а где–нибудь, скажем, на торцовой стороне дома и на девятом этаже. Почему так задумано? Именно потому и затем, чтобы простого копирования не было. Не в колоннах дело, милый дедушка! Украшения из стекла и бетона тоже недешево стоят и, может быть, дороже мрамора обходятся — я в этом не разбираюсь и спорить не буду. Скажу только, что если землю дыбом становить, то впоследствии ее приходится колоннами подпирать, и это даже не помогает. Может быть, не только у нас, кто–нибудь идущий ныне в первой шеренге новаторов будет со временем землю колоннами подпирать, А пока он еще находит, что всякой классической дребедени слишком мало сломано — давай ломай!
Ради бога, милый дедушка, никому не говорите, что я позволил себе такие шутки над новаторством. Этого не прощают. Но вы знаете мои взгляды — я твердо стою на том, что абстрактную противоположность нового и старого классики марксизма никогда не называли диалектикой. Нигде не сказано, что новое хорошо только потому, что оно ново, а старое плохо только потому, что оно старо. Это все пустые абстракции, которые имеют, конечно, свое социальное происхождение и на практике приводят к величайшей путанице, очень выгодной всяким плутогениям вроде тех, которые широко открыли ворота из неживой материи в живую, а всякому, кто сомневался в их чувстве нового, грозили применением устава о консерваторах.
Нужно искать во всем объективно хорошего, а не нового или старого. И вот с этой точки зрения я согласен, Константин Макарыч, что старое требует ломки, — по крайней мере многое в нем, как бы оно ни рядилось в новые одежды. Так что прошу вас, не верьте дедушка, если вам скажут, что я хочу Волгу толокном замесить и блоху на цепь приковать. По мне, так пусть ее прыгает. Но в каждом серьезном деле нужно разбирать, что хорошо и что плохо, а не шуметь, как писатель Ратазяев у Достоевского: «Все это старое!» Вы помните, он писал отрывисто и с фигурами, а «Станционного смотрителя» не одобрял. Устарело, говорит, хотя Пушкин, конечно, великий талант и прославил свое отечество. Кто же у нас классиков не признает?
Сказать откровенно, я Ратазяевых не люблю и ничего в них нового не нахожу, особенно, когда они начинают указания делать. Однако, не кажется ли вам, милейший Константин Макарыч, что Ратазяев становится заметной фигурой? «Все это старое!» — говорит, — это был «догматический сон».
Ну, правильно! Только зачем в этом деле такие высокие показатели давать? Не будет ли это новый сон? Ведь самое главное, милый дедушка, остается — самое главное, то есть чрезмерное и каждодневное усердие в применении чувства нового до полного безобразия. Вот это «новое—старое» очень меня беспокоит, чреватое глубокими последствиями.
Да, милый дедушка, на это надо обратить. И обратите еще на то, что одни и те же сикамбры, как я вам докладывал, справляют день ангела и на Онуфрия, и на Антона. Всегда они первые ученики, всегда любезны сердцу движущейся эстетики, а другим бывает вливание или начет. Обыкновенной голове этого не понять, это кажется странным, как принцип неопределенности в новой физике. Но, может быть, я здесь что—то недопонимаю? И, может быть, в этом особая закономерность состоит, и человек современной эпохи должен привыкнуть к ней, глядя на эти явления странного мира не моргнув глазом, а то начнешь моргать — сейчас тебя оформят как темного консерватора.
Однако удивительная эта русская литература! Как она все вперед видела! Вот я вам только что Ратазяева привел, а помните более известную фигуру — образ Угрюм–Бурчеева в произведении М.Е.Салтыкова—Щедрина «История одного города»? Я без сравнений говорю, пусть никто не обидится. Дайте мне, пожалуйста, анализ этого образа — кто такой Угрюм–Бурчеев, консерватор или новатор? Как сказать. С одной стороны, цепенящий взор, сюртук военного покроя и сочиненный Бородавкиным «Устав о непреклонном сечении» в правой руке. А с другой стороны, куда он левой указывает? Какое вторжение в жизнь, какая широта задуманных преобразований — какой артист, свободный от копирования и фотографирования, творящий нечто новое вопреки естеству природы, погиб в этом человеке!
Утопия прямых линий, в которую он хотел вогнать потрясенное население города Глупова, показывает, что Угрюм–Бурчеев был знаком с архитектурой. Его мечта восходит по крайней мере ко временам французской революции, к доктрине Леду и эстетическим теориям некоторых членов Конвента, желавших упразднить рисование с натуры в пользу честной и прямой линейки. Но куда там! В свою очередь, знаменитый градоначальник развил эстетику чистых линий со страшной силой и заложил основы будущего без всяких украшений. Старый Глупов был срыт с лица земли, возник проект нового города с центральной площадью, откуда в разные стороны бежали прямые улицы—роты. Даже река не могла больше течь, повинуясь своим стихийным законам. «Уйму я ее, уйму!» — сказал Угрюм–Бурчеев и бросил на борьбу с ней все население. Одним словом, тут обозначился «целый систематический бред» или, еще лучше, по замечательному выражению Щедрина, «нарочитое упразднение естества». Недаром даже привычное ко всему местное население закачалось — ибо такое усилие творческой воли вызвало у него не простой страх, связанный с чувством личного самосохранения, а поистине трансцендентный ужас, опасение за человеческую природу вообще». По секрету вам скажу, милый дедушка, что нарочитое упразднение естества есть любимая мечта всей новейшей эстетики, начиная с кубизма.
Коснувшись деятельности Угрюм–Бурчеева, нельзя пройти мимо общественной стороны его новаторства. Щедрин отмечает, что сей градоначальник не имел желания сделаться благодетелем человечества. Для такого программирования у него просто серого вещества не хватило. «Лишь в позднейшие времена почти на наших глазах, — пишет автор «Истории одного города», — мысль о сочетании прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивеляторы старого закала, подобно Угрюм—Бурчееву, действовали в простоте души по инстинктивному отвращению от всякой кривой линии и всяких зигзагов и извилин», Угрюм–Бурчеев был, так сказать, бессознательным предшественником той странной смеси новаторства и консерватизма, которая одним концом уходит во времена Котошихина, а другим прямо в «казарменный коммунизм» упирается. Вы понимаете, милый дедушка, что всякая угрюм–бурчеевщина, даже в самой левой одежде, не наше дело. Однако попытки такого новаторства в прежние времена на отдельных участках имели место.
Между прочим, напомню еще раз о Хулио Хуренито, учителе модернизма и всеобщей ликвидации. Один из его апостолов — Карл Шмидт мечтал об организованной жизни в масштабе вселенной. Этот Шмидт был не то крайним социалистом, не то прусским патриотом, что не так удивительно, ибо уже во времена Энгельса в Пруссии каждая ротная швальня считалась социализмом. Итак, он оставил точный план распределения времени отдельной личности, и все снизу доверху у него было обдумано, — детские дома, трудовые колонии, общежития, столовые, депо развлечений и т.д. Полная победа планового начала над стихией достигла своей вершины в области искусства.
Последнее особенно не понравилось евангелисту Хулио Хуренито — Илье Эренбургу. Он даже позволил себе возразить, что при таких порядках жизнь человека будет подобна «вращению крохотного винтика». Однако учитель разъяснил ему истинное положение вещей и неизбежность реализации планов Шмидта. Без помощи эстетики здесь тоже дело не обошлось.
«Ты видел картины современных художников—кубистов? После всяких «божественных капризов» импрессионистов — точные обдуманные конструкции форм, вполне родственные схемам Шмидта».
Хорошо писал Илья Эренбург в 1922 году! Он даже заметил внутреннюю связь кубизма с мировыми войнами и «нарочитым упразднением единства».
А впрочем, как говорится, нет ничего нового под солнцем. Если бы вы, дедушка, знали, что первыми новаторами в этом роде, первыми западниками были основатели восточных деспотий! За много тысяч лет до нашего времени они уже применяли нарочитое упразднение естества и культ прямых линий или «обдуманных конструкций». Да что говорить! Были известны даже «отчуждение» и борьба с ним. Ну, словом, полное осчастливление простого населения, которое доставляло для этого новаторства необходимые злаки — ячмень, пшеницу, а также бобы и кунжутное масло.