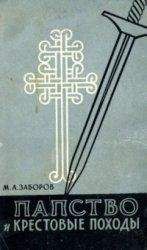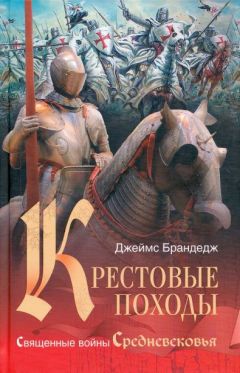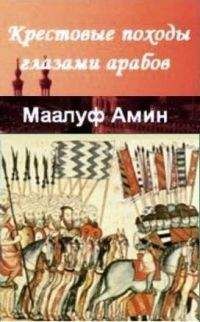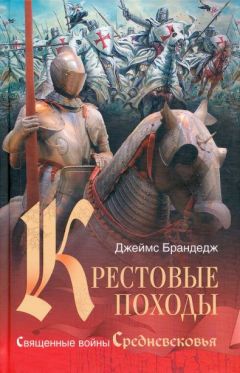Нелегко бы пришлось мне, если бы я поставил себе задачу исчерпывающе охарактеризовать своеобразие новой координатной сети, исходящей от пера Солженицына. Ведь не для того же пишет он свои тысячи страниц, чтобы их легко было подытожить в одном абзаце. Не для того и изощряется в языковых поисках, чтобы позволить свести свой труд к двум-трем банальностям, охватывающим его взгляды рациональной формулой. Он стремится разветвить корни своего повествования так широко, чтобы самые отдаленные ветви сегодняшнего российского дерева ощутили свою сродненнность через это общее прошлое. И путь этот не закрывает ни для раскольника, ни для сектанта, ни для украинца, ни для еврея, если они испытывают тот же почтительный трепет листа к основному стволу, который кажется ему столь естественным в России, единой и неделимой. Неделимой не только в пространстве, но и в истории...
Однако неделимая эта Россия, Родина, Отчизна, Отечество, не только в смысле старой имперской формулы, но и в более широком и благородном смысле, существует сегодня лишь разобщенно и расколото в мыслях разных по характеру и убеждениям людей. Солженицын пытается связать все эти разные в сущности картины во взаимно-дополняющееся, фантастическое по сложности соборное единство.
Ведь новая координатная сеть, по мысли Солженицына, должна вернуть порядочность его народу. Точнее, ввести такое понятие о порядочности, которое вернет народу самоуважение и объединит не только друзей, но и врагов. В том смысле, что предмет своей вражды они будут рассматривать в пределах той же нравственности, на одной морально-географической карте. Тут без противоречий не обойдешься. Противоречивые сочетания часто живут дольше простых. Парадоксальная реальность достовернее, чем умопостигаемая.
Поэтому Солженицын не боится компромиссов и логических неувязок. Оставаясь политическим агностиком, он верит, что естественное развитие само определит политические формы без всякого предварительного замысла. Основания для своего оптимизма он черпает из исторического прошлого:
"Кто это смеет возомнить, что способен придумать идеальные учреждения? Только кто считает, что до нас... ничего не было важного... Лучший строй не подлежит нашему самовольному изобретению. Ни даже научному... Не заноситесь, что можно придумать - и по придумке самый этот любимый народ коверкать... Связь поколений, учреждений, традиций, обычаев - это и есть связь струи".
Хотя это высказывается в 1914 год персонажем, еще не знавшим, что струя в ближайшем будущем прервется, относится это конечно к сегодняшнему дню и обращено к народу, который коверкали уже не раз. Вероятно, будут и впредь. Писателю, безусловно осуждающему историческую заносчивость революционеров, приходится теперь принимать их наследие как несомненный исторический факт.
Римская Империя достигла величия ценой рассеяния, развращения и гибели своего народа, превращения его в привилегированное сословие. Советская Империя не прочь повторить этот исторический прецедент. Русское происхождение уже прак-тически превратилось в привилегию во многих отраслях, но у Советской власти нет пока идеологических средств закрепить это положение. Поэтому русский национализм сейчас балансирует на лезвии ножа. Он может превратиться в средство имперской политики, как это ни трудно в многонациональной Империи. Но с равным успехом он может превратиться в средство отступления от этой имперской политики: в оправдание отказа от мировых авантюр и вопиющих захватов. Ибо при настоящих советских условиях такой отказ требует оправдания.
Для службиста русский национализм превращается в оправдание его службы.
Для диссидента он становится стимулом к отказу от этой службы.
И тот, и другой не обойдутся теперь без ссылок на Солженицына. Он один пытается натянуть ту общую сеть координат, в которой те и другие, возможно, сумеют понять друг друга. Служители власти, работающие в цековских кабинетах, штабах и научно-исследовательских институтах, и властители дум, работающие истопниками и дворниками в московских и ленинградских подвалах. Может быть, и наступит час, когда они согласятся считать свои разногласия "ряьбю на воде", и это будет для Солженицына час победы. Но эта победа так смутно еще различима! Национальное согласие так хрупко и зависит от такого множества тонких деталей, вымученных компромиссов и недоговоренностей, что один скептический взгляд может разрушить все здание.
Вот почему Солженицын и не зовет за собою никого из тех, кто может с сомнением отнестись ко всей сети, вывязываемой им из исторического прошлого, видимого под очень определенным прагматическим углом. Это относится к нашему брату-еврею в первую очередь, но, быть может, и не только к нему.
Прошлое, которое воссоздает Солженицын в "Красном колесе", пронизано деталями, выстраивающимися в картину, близкую только сердцу сочувственно настроенного патриота, но способную вызвать открытое возмущение скептика.
"Вышел на трибуну тифлисец Зурабов и хужейшим русским языком стал поносить русскую армию в общем виде, изгаляться над ее военными поражениями - что она всегда была бита, будет бита, а воевать прекрасно будет только против народа".
Грузин Зурабов наверное был бы потрясен, если бы оценил это требование - говорить чистым русским языком. Он жил в пределах Российской Империи не в гостях. Его поношение русской армии могло бы рассматриваться как национальное оскорбление только, если бы грузины не служили в этой армии. Если же они обязаны были служить, его негодование по поводу бесчисленных поражений в малоосмысленных войнах, вроде Русско-Японской, не менее оправдано, чем негодование по тому же поводу, высказанное самим Солженицыным прекрасным русским языком:
"С первого же сражения мелькают русские генеральские знаки как метки непригодности, и чем выше, тем безнадежней, и почти не на ком остановить благодарного взгляда..."
Да Зурабова бы за такую фразу в клочки разорвали! Видно, не в том дело, что сказано, а в том, кто сказал...
Эта картина прошлого призвана донести до современного русского человека благую весть об общей истории, в которой не стыдно ему будет встретиться с бывшим противником. С подлинной симпатией описывает Солженицын рабочего-большевика А. Шляпникова, подчеркивая, что революционерство его связано с его происхождением из раскольников: "А что за вид был у Саньки в семнадцать лет, еще до первой одиночки, ...до Владимирского централа, еще когда совсем не был революционер: в косоворотке провинциальной.., а руки беспокойно просятся в дело... И глаза - к подвигу, к вере.
А вера та была - древле-православная. Она еще гналась тогда, и за нее стеной стояли истинно православные, и, как все, готов и Александр был - умереть.
...Александр пошел в с.-д. Как будто все другое, а гонители, а враги - те же самые..."
Русский, стало быть, наш, и вера его фанатическая и заблуждение, и соблазн ("...рад госпоже, что меду на ноже") - все наше.
Но и не наши - тоже люди. И - нет, как будто, правых в ожесточенных людских спорах, а - виноваты все...
"Допустить, что не вся мировая истина захвачена нами одними. Не проклянем никого в "меру его несовершенства"".
И сегодняшний русский человек, который смертельно устал от марксизма, навязанного ему отцами, должен ощутить, что прошлое его не позорно. Что отцы, хотя и ели кислый виноград, но вечного проклятия на них нет. Дорога назад, в общее лоно, для них свободна...
Было! Было затмение: "Это - смертельная болезнь: помутнение национального духа. Если образованный класс восхищался бомбометателями и ликовал от поражений...? Это уже были не мы, нас подменили, какое-то наслание злого воздуха. Как будто в какой бездне кто-то взвился... И закрутился, и спешит столкнуть Россию в пропасть... Тут есть какой-то мировой процесс. Это - не просто политический поворот, это - космическое завихрение. Эта нечисть, может быть, только начинает в России, а наслана - на весь мир".
Так, может быть, все же избрана Россия? Этот взволнованный монолог рыцарственного монархиста, генерала Нечволодова, уравновешивается, однако, спокойной кроткой вдумчивостью Сани Лаженицына ("Октябрь 16-го"): "В этом проигранном мировом положении - зачем каждое исповедание настаивает на своей исключительности и единственной правоте? И православные, и католики. И вообще христиане?.. Как же можно предположить, чтобы Господь оставил на участь неправоверия все дальние раскинутые племена?.. И те народы обречены на вечную тьму лишь потому, что не перенимают превосходную нашу веру? Христианин - разве может так понимать?"
Может, конечно. Вот и еще от Нечволодова: "Вся русская жизнь - в духовном капкане. Три клейма, три заразы подчинили нас всех: спорить с левыми - черносотенство, спорить с молодежью - охранительство, спорить с евреями - антисемитизм..."