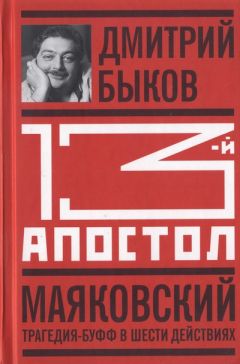Есть версия, что ОКР чаще возникает у людей, склонных к особенному перфекционизму, не способных ничего закончить вовремя,— это так называемый анаксантический тип; нельзя сказать, чтобы Маяковский был перфекционистом в одежде или даже в стихах,— но в уборке квартиры, в наведении чистоты, безусловно, был. Лавут вспоминает несколько эпизодов, когда они чуть не опаздывали на поезд именно из-за обсессий или фобий Маяковского: один раз он на полчаса дольше, чем надо, наводил порядок в уже прибранной комнате, в другой раз не мог прервать бильярдную игру, пока не выиграл. Об игромании поговорим отдельно. Можно сказать, что мнительность у него прогрессировала — он становился подозрителен даже по отношению к друзьям, в «Хорошо» шлифовал каждую деталь, опасаясь малейших и, в сущности, третьестепенных неточностей. Ревность и подозрительность во время романа с Полонской развились у него до того, что она не могла шагу ступить без его назойливой заботы.
Людям этого типа проще дать десять концертов в провинции, чем провести одну ночь в пустой квартире. Почти все их дружбы или связи рано или поздно рвутся, ибо почти никто не способен соответствовать растущим, взаимоисключающим требованиям, новым и новым условиям. Возможно, своевременное обращение к психиатру помогло бы ему или хоть внушило бы утешительную мысль о том, что ничего особенного с ним не происходит — распространенность ОКР доходит до ста случаев на 100 тысяч человек (это тяжелые больные, а в легкой форме ОКР встречается сегодня у каждого двадцатого). Но у кого ему было лечиться — у Фрейда?
Что до игромании, она известна в двух формах: первая — одержимость азартными играми, происходящая либо от прямой корысти, либо от маниакальной сосредоточенности на самом процессе игры. Вторая — по сути продолжение тех же обсессий, проистекающее от постоянной неуверенности в себе и, собственно, в своем праве на существование. Маяковский никогда не играл ради денег — его выигрыши ничтожны по сравнению с гонорарами, деньги вообще никогда не занимали его, они должны быть в некотором необходимом для жизни количестве, чтобы не думать о них постоянно,— и ладно. Все игры Маяковского — как правило, разновидность пасьянса, поиск ответа на императивный вопрос: да или нет. Это проистекало от непрерывно нарастающей, копящейся неуверенности в собственном raison d'être, праве быть: Маяковский играл с приятелями в трамвайные билетики — у кого больше сумма цифр; с попутчиком — кто угадает количество шагов или шпал до столба; бильярдом он увлекался скорее эстетически — «отращиваю глаз»,— но если доходило до пари, играл до тех пор, пока не отыгрывался. Тут опять суеверие: нельзя уйти проигравшим. Значит, дальше в жизни все пойдет по нисходящей, сплошные проигрыши. И он мучил соперника, заставляя терпеть бесконечные отыгрывания — на бильярде, где чаще выигрывал, или в карты, где особенно удавался ему покер. Шахматы не интересовали его совершенно — там играешь не с судьбой, а его, как и суеверного Пушкина, больше всего интересовал именно прямой контакт с ней, ее ответы на его вопросы. Каждому из нас случалось — особенно в моменты крайнего нервного напряжения или в ожидании неясной, но ощутимой опасности,— просиживать ночами за пасьянсом, обычным или компьютерным, перекладывать его, пока не сойдется; оторви нас кто-нибудь в такую минуту от ничтожного и бессмысленного, в общем, занятия,— и мы будем уверены, что упустили спасение, а потому с крайней неохотой отвлекаемся на какие-то реальные дела. Как знать, может быть, поэтам и прочим жертвам ОКР присуще особо тонкое чувство реальности, они ощущают неочевидные связи, и Маяковский понимал, что если он выйдет из квартиры минутой раньше, то попадет под трамвай или машину, мало ли. О подобной зависимости от внешних, алогичных примет у Набокова написаны «Signs and symbols» — вероятно, лучший его англоязычный рассказ,— а Ирина Одоевцева так вспоминает о Тэффи:
«Мы возвращаемся с прогулки. Со слишком большой прогулки для нее. Я забыла, я не подумала, что такой «спортивный пробег» в семь километров ей не по силам.
— Надежда Александровна, вы устали?— спрашиваю я.
Она качает головой.
— Нет, не то. Или все-таки устала. Но не от прогулки только, а оттого, что на этой несносной улице столько домов и все высокие. А я должна сосчитать, сколько окон в каждом этаже. Утомительно!
Я удивлена.
— Почему вы должны считать окна?
Она пожимает плечами.
— Разве я знаю, почему и зачем? Должна, и все. Иногда не могу на улицу выйти — сейчас же обязана считать окна — четное или нечетное число их. Нечетное — да. Четное — нет. Четное приносит мне счастье. Я и номера автомобилей считаю. Но теперь, слава Богу, автомобилей почти нет. А в Париже просто беда. Идешь и головой крутишь: то на окна, то на автомобильные номера смотришь, легко самой под автомобиль угодить. Не каждый день это со мной. Но последнее время все чаще. Очень тяжело это и неприятно. И мучительно».
Маяковский, играя однажды в Тифлисе на бильярде с Ираклием Гамрекели, не отступал до тех пор, пока не выиграл,— и успел на вокзал за три минуты до отхода поезда. Страшно огорчали его и карточные проигрыши. Ему начинало казаться в такие минуты, что Бог — или та сила, которая мерещилась ему на месте Бога,— отворачивается от него, обрекает на неудачи. Острое чувство опасности, постоянно таящейся рядом,— лейтмотив его ранней лирики, когда он еще бывал откровенен с читателем. Вообще эта тема — обсессии, навязчивости, ощущение чьего-то постоянного недоброжелательного внимания — редко просачивается в его стихи: потому, вероятно, что профессиональная сфера — вообще последняя, которая не хочет уступать болезни. Профессионализм, доведенный до автоматизма, спасает от суеверия или по крайней мере приостанавливает его. Здесь разгадка особого пристрастия Маяковского к срочной работе, к поденщине, к газете — когда текст надо сдать кровь из носу к установленному времени; отсюда же его мечта о том, чтобы «в дебатах потел Госплан», давая ему задания. Ведь такая работа — срочная, неотменимая — служит внешним оправданием для отказа от бесчисленных, изнурительных ритуалов, от перестановки вещей на столе, от тысячного наведения порядка в пустой комнате… Вот почему он цеплялся за людей: при них неловко проделывать все эти танцы, перестановки и перекладки. Если ты все время занят — и притом работа срочная, без которой сорвется вечер или не выйдет газета,— у тебя есть аргумент в постоянном споре с собой: Маяковский потому и навешивал на себя такое количество обязанностей перед другими, чтобы не давать постоянного отчета своему соглядатаю, личному черному человеку. У невротика одно спасение — подменять вымышленную угрозу реальной: если мы недостаточное количество раз передвинем предметы на столе, может случиться ужасное и непонятное, но если мы не сдадим текст в номер — произойдет вполне реальный скандал, а то и штраф. Вот почему большинство невротиков — трудоголики, и на качестве их работы неврозы никак не сказываются. Это порождает миф о том, что неврозы — не более чем распущенность, а в душе-то все жертвы ОКР — абсолютно здоровые люди, воду на них можно возить.
А поскольку жертвы ОКР в большинстве своем — пациенты застенчивые и стыдливые, они способствуют распространению этого мифа. Думаю, и Маяковский охотнее согласился бы на ярлык «распущенности», нежели на объективный диагноз. Тем более что в официальный реестр психических заболеваний его невроз был внесен лишь в 1989 году.
О бытовых его привычках мы знаем немного. Каждый день брился. Если не брился — это говорило об исключительном срыве, и Катаев, вспоминая его последний вечер, пишет о «колючей щеке». Еще несколько упоминаний о небритости — в свидетельствах о его безумной радости в семнадцатом году: бегал туда, где стреляли, что твой Саид.
Насчет «свежевымытой сорочки» — правда. Свежая рубашка каждое утро — норма.
О любимых блюдах знаем того меньше. Вот про Пушкина — знаем: крыжовенное варенье, персики, «моченым яблокам также доставалось от него нередко» — Вяземский. Про Маяковского знаем только, что любил варенье из Багдади, в особенности айвовое, а в голодной юности — копченую колбасу, которую за твердость называли «железной»; впрочем, любил — неточное слово. Ел, поскольку была доступна, сравнительно дешева, размечал ее по утрам — не завтрак столько-то, на ужин столько-то. Иногда с утра съедал всю дневную норму, поскольку голоден был постоянно. Что любил действительно страстно, предпочитая всему,— так это компот в любых видах: крюшон (тот же компот, но с вином), дыни, арбузы… Требовал пять порций компота — цитируя Гейне, «мне и моему гению».
Ел быстро, перехватывал на ходу, предпочитал бутерброды. Из спиртного — кахетинское, реже шампанское. Любил пиршества, застолья, закупал щедро, тот же Катаев, с его чуткостью ко всему вещественному и аппетитному, запомнил один такой набег на продмаг: «Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаич? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой «московской». Затем: шесть бутылок «абрау-дюрсо», кило икры, две коробки шоколадного набора, восемь плиток «золотого ярлыка», два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок…» Ясно, что о его личных вкусах по этому перечню судить нельзя — хочет человек сделать гостям приятное. Любовь к деликатесам всегда ему казалась буржуазной, толстяков он не переносил с голодной юности, делая исключение, пожалуй, для одного Артемия Халатова — но и тот не оправдал доверия, вырезав его портрет и приветствие из апрельского номера «Печати и революции».