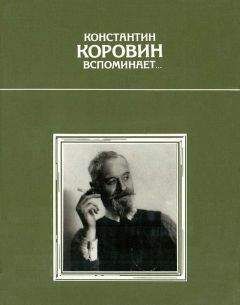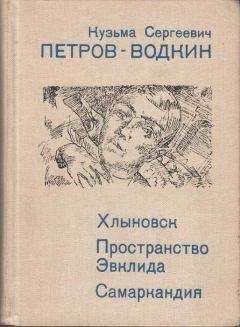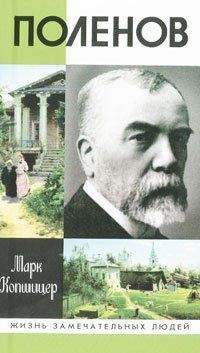— Я не знаю.
И так прошло долгое время. Я приехал в Петербург и увидел Сергея Юльевича Витте, который был министром. Сергей Юльевич, к моему удивлению, сказал мне, что он тоже не знает акта обвинения Мамонтова.
— Против Саввы Ивановича, — сказал он, — всегда было много нападок. И на обвинение его «Новым временем» в растрате он как душеприказчик чижовских капиталов ничего не ответил. А когда это дошло до царя, то он спросил меня, и я тоже не мог ничего сказать. Но Савва Иванович, когда я его просил это выяснить, представил отчет. Оставленные Чижовым капиталы он увеличил в три раза, и все деньги были в наличности. Молчание Саввы Ивановича, которое носит явную форму презрения к клевете, могло и сейчас сыграть такую же характерную для него роль. Я знаю, что Мамонтов честный человек, и в этом совершенно уверен.
И Витте, прощаясь со мной, как-то в сторону сказал про кого-то:
— Что делать, сердца нет…[62].
Серов Валентин Александрович писал в это время портрет государя и, окончив, сказал царю:
— Вот Мамонтов арестован, и мы, его друзья, не знаем за что.
— Мне говорят все, что он виноват, — сказал государь. — Но жаль старика и мне. И я сейчас же дам приказ, чтоб он был переведен под домашний арест[63].
На другой же день Мамонтов был переведен в дом своего сына Сергея Саввича[64], где мы видели его и приходили к нему. Как известно, в процессе Мамонтова, где прокурор Курлов[65] говорил обвинительную речь, присяжные заседатели в полном составе вынесли оправдательный приговор Савве Ивановичу Мамонтову. Выйдя из суда, Савва Иванович поехал на свой гончарный завод на Бутырках, где он с Врубелем делал из глины прекрасные произведения майолики. Савва Иванович заехал ко мне в мастерскую на Долгоруковской улице, пригласил меня к себе, и мы вместе с ним поехали в его две комнаты в маленьком домике на гончарный завод. Было поздно. Ворота были заперты, Мы звонили, но никто не отворял. Сбоку у забора в песке была лазейка для собак. И вот в эту лазейку мы пролезли с Саввой Ивановичем. Нас встретил Петр Кузьмич [Ваулин], который заведовал обжигом майолики. Савва Иванович сказал:
— Ну, Костенька, теперь вы богатый человек. Сейчас поставим самовар, едите за калачами.
Я — в ворота, побежал в лавочку, достал калачей, баранок, колбасы, каких-то закусок и принес Савве Ивановичу. Савва Иванович был, как всегда, весел. Потеря состояния, тюрьма и суд на него не произвели никакого впечатления. Он только сказал мне:
— Как странно. Один пункт обвинения гласил, что в отчете нашли место, очень забавное: мох для оленя — 30 рублей. Костенька, — сказал Мамонтов, — помните этого оленя, бедного, который умер у Северного павильона на Нижегородской выставке. Его не знали чем кормить, и мы так жалели: мох то, должно быть, не тот, он не ел. Бедный олень.
И Савва Иванович смеялся.
— Видите, его положение было хуже, чем мое. Мошенники-то, мох-то, должно быть, не тот дали, не с севера.
Савва Иванович так и остался жить на своем заводе. И сожалел все время, что не может поставить опять в театре тех новых опер, партитуры которых он покупал и разыгрывал с артистами <…>
Савва Иванович был очень рад, что, работая в качестве консультанта-художника по устройству на Всемирной парижской выставке 1900 года отдела окраин России, я получил как художник высшие награды от французского правительства. Золотые медали получили я, Серов и Малявин[66]. В это время Врубель приехал из-за границы и жил со мной. И странное было веяние в прессе по отношению к художникам. Из заграницы кто-то привез модное слово «декадентство», и оно обильно и трескуче применялось ко мне и Врубелю. Не было дня, чтоб каждая газета на все лады неустанно, в виде бранного отзыва и полного отрицания нас как художников не применяла бы это слово. Но, несмотря на это, однажды ко мне приехал управляющий конторой московских императорских театров Владимир Аркадьевич Теляковский[67] и предложил мне вступить в театр как художнику, для чего он делает особое новое положение, и просил помочь ему в деле реформы московских императорских театров.
— Причем, — сказал он мне, — вам предоставляется создавать постановки, столь же художественные, как те, которые были в театре Мамонтова. Но, к сожалению, должен сказать вам, что вы встретите много препятствий, главным образом в прессе от непонимания, а в театре — от артистов и рутины. Но я постараюсь всегда поддержать ваши достоинства. Театры до такой степени пали с художественной стороны, что, например, балет не может быть дальше в таком положении. Он не посещается совсем публикой, его сборы не превышают тридцати рублей[68]. Театр пуст, и на каждое представление балета чиновники конторы и посыльные едут в казенные учебные заведения, институты и кадетские корпуса, военные учебные заведения пополнять публику спектаклей учениками этих заведений. Эти девицы и юноши, возвращаясь из театров, с балетов, не подготавливают уроков, что отражается ненормально на положении казенных учебных заведений. Этим отчасти объясняется и уход директора Всеволожского[69], и поговаривают даже о закрытии балетной школы в Москве и Петербурге. Данный недавно балет «Звезды» с бенгальским огнем, с безвкусной постановкой, сделал два раза сборы по 300 с чем-то рублей[70]. Публика на балеты не идет. Надо внести вкус и понимание[71].
Я предложил Теляковскому пригласить художника А. Я. Головина, человека большого вкуса[72].
Первый балет, для которого мы работали костюмы и декорации, был «Дон Кихот». Удивительно, что, несмотря на вопль газет, балет шел при полных сборах. Артисты не желали надевать мои костюмы, рвали их. Я ввел новые фасоны пачек вместо тех, которые были ранее, похожие на абажуры для ламп[73]. Пресса, газеты с остервенением ругали меня: декадентство. Грингмут писал: «Декадентство и невежество на образцовой сцене…»[74]. Прекрасный артист Малого театра, Ленский, считавший себя художником и знатоком, писал в «Русских ведомостях»: «Импрессионизм на сцене императорского театра», причем слово «импрессионизм» бралось тоже, как ругательство, так же, как и декадентство[75].
В декоративной мастерской, где я писал декорации, я увидел, что холст, на котором я писал клеевой краской, не сох, и темные пятна не пропадали. Я не понимал, в чем дело. И получил анонимное письмо, в котором безграмотно мне кто-то писал, что маляры-рабочие кладут в краску соль, которая не дает краске сохнуть. На В. А. Теляковского, который сидел в партере на репетиции в Малом театре, бросилась с криком какая-то женщина, желая ему нанести оскорбление — ударить[76]. Теляковский схватил эту женщину за руки, а в конторе императорских театров в это время сидел в телефонной будке рецензент из «Московских ведомостей». Оказалось, что телефон уже был соединен с Петербургом, и туда было дано знать, что Теляковскому нанесено оскорбление действием во время репетиции. Наутро в Петербурге газеты оповестили, что управляющему московской конторой императорских театров нанесено оскорбление действием. Так Теляковский был принят в Москве в императорских театрах.
Я купил себе револьвер и большую кобуру, и писал декорации с револьвером на поясе. К удивлению, это произвело впечатление.
Не понравилось прессе то, что ранее журналисты имели право, когда им угодно, ходить за кулисы, а Теляковский запретил, а также запретил и всем богатым москвичам-меценатам входить за кулисы, где те в уборных пили шампанское с артистами. Теляковского ругали в газетах, и все его реформы-улучшения ни во что не ставили. Это была сплоченная компания, и вступление новых сил в театр было почти невозможно. Теляковскому было трудно справляться со всеми препятствиями, но странно то, что, несмотря на всю травлю прессой Теляковского, меня, Головина, — сборы императорских театров были полные.
По выходе князя Волконского[77] из директоров императорских театров, государь назначил на эту должность В. А. Теляковского, Я старался сделать как можно лучше постановки и работал дни и ночи в мастерских.
Казалось, будто ничего не было в России другого важного, кроме криков прессы о театрах. Все газеты были полны критикой и бранью по адресу императорских театров. В прессе шипела злоба и невежество, а театры были полны. Теляковский находился в Петербурге, и я ездил туда оформлять постановки, вводил в костюмерные мастерские новые понятия о работе над костюмом и делал окраску материй и узоров согласно эпохе, желая в операх и в балетах радовать праздником красок. За роскошь спектаклей упрекали газеты и контроль императорского двора, который тоже хотел придраться и был невольно удивлен, что новые постановки выходили вчетверо дешевле прежних. Когда Теляковский пригласил Шаляпина, то я и Головин хотели окружить великого певца красотой. Теляковский любил Шаляпина.