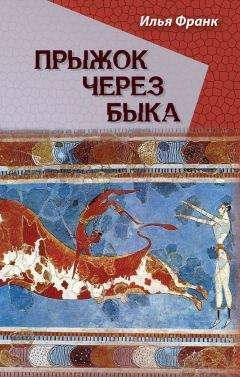Сандро Боттичелли. Рождение Венеры. 1482–1486 годы
Иными словами, мало ли что тебе привиделось! Надо вести здоровый образ жизни!
Но есть два момента, ради которых можно пожертвовать даже здоровым образом жизни.
Во-первых, я увидел то, что в свое время увидел древний грек: соткавшуюся из воздуха богиню Афродиту с дельфином. И я лично понял, как возникает миф – он возникает из видения. И если бы не было никакой Древней Греции или если бы древнегреческая мифология не сохранилась, я бы ее все равно увидел. Пусть даже все это объясняется физиологически, пусть все это существует лишь внутри меня – все равно прикольно!
Во-вторых, я ведь не случайно начал наш разговор с «улыбки богини». Не подумайте, что совпадения, о которых я написал, всего лишь литературный прием. Это правда, я так живу. А значит, все это существует не только внутри меня, как видение, но и вовне.
Видение было не только очень сильным, поражающим до глубины души, но и настолько важным, коренным, что определило мою последующую жизнь. Во-первых, внутренне: после него я по-особому начал чувствовать слова – и начал писать стихи (собственно, мое первое стихотворение было об этом, его я потом выбросил и не помню наизусть), а затем (в том же 1983 году) и ту книгу, которую дописал только в 2012 году («Портрет слова»). До этой «встречи с Музой» у меня и в мыслях не было что-либо писать, не было вообще особенного интереса к литературе. Во-вторых, внешне: жизнь предстала передо мной как художественная композиция, элементы которой не случайны, а значимы, причем они передают информацию, предназначенную именно мне. Психическое отклонение? Паранойя? Но ведь то, что я рассказал в первой главе про совпадения, правда. Интересно и то, что чем внимательнее я отношусь к таким вещам, тем чаще они повторяются (продолжал свой рассказ сумасшедший). Тем прямее и интенсивнее становится мой разговор с богиней. Если это звучит жутковато, назовем ее Музой. Но важно понимать: речь идет не только о музе литературного творчества, но и о музе жизни. В тот же момент, в который я почувствовал, как чудесным образом сами (почти без моего участия) соединяются слова и образы на бумаге, я ощутил эти соединения (или, как сказали бы символисты, «соответствия», или, как сказали бы китайцы, «дао», или, как сказали бы христиане, «промысел Божий») в самой жизни. Все, что случается со мной и вокруг меня, предстает мне как волны единого моря. (Красиво сказано, не правда ли? Я это украл у кого-то из суфиев – не помню, у кого именно.)
Продолжаю читать роман Шницлера. Георг едет с Анной, своей возлюбленной (которая ждет от него ребенка, но на которой он все никак не может решиться жениться), в Италию – и приходит в дом, где ухаживал когда-то за своей больной матерью и где та умерла:[7]
«Поскольку второй этаж сдавался, Георг легко мог бы посетить комнату, в которой умерла его мать. Но он долго колебался, прежде чем пойти в эту квартиру. И только в день перед отъездом, так, словно ему все же нельзя было это упустить, и один, даже ничего не сказав об этом Анне, он вошел в дом и прошел по лестнице в комнату. Постаревший привратник провел его, не узнав. Всюду была еще та же самая мебель; спальня матери выглядела точно так же, как десять лет назад, и в том же углу, из коричневого дерева, накрытая темно-зеленым бархатным одеялом, вышитым серебром, стояла та же кровать. Но ничего из того, что ожидал Георг, в нем не шевельнулось. Усталое воспоминание, более неглубокое и тусклое, чем когда-либо, пробежало через его душу. Он долго простоял перед кроватью с ясно осознанной волей вызвать в себе те ощущения, которые он чувствовал себя обязанным ощутить. Он пробормотал слово “мама”, он попытался представить себе, как она здесь лежала, в этой кровати, на протяжении многих дней и ночей. Он вспоминал о часах, когда она чувствовала себя лучше и он мог почитать ей вслух или поиграть для нее в соседней комнате на пианино, увидел стоящий в углу круглый столик, за которым тихо разговаривали отец с Фелицианом, потому что мать только что задремала; и наконец, подобно сцене, разыгрываемой в театре, столь же близко и резко, возникла в нем картина того страшного вечера, когда отец с братом ушли, сам же он, совершенно один, сидел у ложа матери, держа ее руку в своей… он все увидел и услышал снова: как она вдруг, после очень спокойного дня, ощутила сильное недомогание, как он распахнул дверные створки и как с теплым мартовским воздухом в комнату проникли смех и речь посторонних людей, как она, наконец, лежала тут, с открытыми и уже угасшими глазами, как волосы, которые еще несколько секунд назад волнисто обтекали лоб и виски, застыли на подушке, спутанные и сухие, и как левая рука свисала, обнаженная, через край кровати, с широко разведенными судорогой пальцами. С такой чудовищной живостью возникла перед ним эта картина, что он, духовным взором, вновь увидал свое мальчишеское лицо и вновь услыхал свой плач, смолкший давным-давно… но он не ощущал никакой боли. С тех пор прошло ведь много времени. Десять лет почти.
“E bellissima la vista di questa finestra[8]”, сказал неожиданно привратник, стоявший за ним, и отворил окно; вдруг, как в тот давно минувший вечер, снизу зазвучали голоса людей. И в то же мгновение в ушах у него возник голос матери, таким, каким он слышал его тогда, умоляющий, прерывающийся… “Георг… Георг”… и из темного угла, с того места, где прежде лежали подушки, он увидел, как ему навстречу мерцает что-то бледное. Он подошел к окну и подтвердил: “Bellissima vista”. Но прекрасный вид был словно покрыт темной вуалью. “Мама (Mutter)”, пробормотал он, и еще раз: “Мама”… но имел при этом в виду, к своему удивлению, не давно погребенную, которая его родила; слово было предназначено той другой, которая еще не была матерью и которая должна была стать ею через несколько месяцев… матерью ребенка, отцом которого был он. И вот это слово внезапно прозвучало так, словно звучало нечто никогда не слышанное, никогда не понимаемое, словно какие-то таинственно поющие колокола, раскачиваясь, сопровождали его в даль будущего. И Георг устыдился, что он поднялся в комнату один, словно проник в нее украдкой. Теперь он даже не сможет рассказать Анне, что здесь побывал».
Если у вас в жизни не бывает подобных ощущений, подобных соединений, «соответствий» – как в пространстве, так и во времени, то вам, видимо, не стоит читать то, что я пишу. А если бывают, то, так сказать, добро пожаловать в клуб.
Новалис начинает повесть «Ученики в Саисе» (посвященную Изиде – но не просто древней богине, а такой Изиде, какой она действительно является своим любимцам) следующим образом:
«Причудливы стези людские. Кто наблюдает их в поисках сходства, тот распознает, как образуются странные начертания, принадлежащие, судя по всему, к неисчислимым, загадочным письменам, приметным повсюду: на крыльях, на яичной скорлупе, в тучках, в снежинках, в кристаллах, в камнях различной формы, на замерзших водах, в недрах и на поверхности гор, в растительном и животном царстве, в человеке, в небесных огнях, в расположении смоляных и стеклянных шариков, чувствительных к прикосновению, в металлических опилках вокруг магнита и в необычных стечениях обстоятельств. Кажется, вот-вот обретешь ключ к чарующим письменам, постигнешь этот язык, однако смутное чаянье избегает четких схем, как бы отказывается отлиться в ключ более совершенный. Наши чувства как бы пропитаны всеобщим растворителем. Лишь на мгновение твердеют наши влечения и помыслы. Таково происхождение чаяний, однако слишком быстро все тает вновь, как прежде, перед взором».
А заканчивается повесть Новалиса (вернее, тот фрагмент, что он успел написать) словами о тех, кому Изида открылась и кто продолжает в нее всматриваться:
«Никто не ведает, когда кому суждено приобщиться к сокровенному. Бывают удачи в молодости, бывают прозренья на склоне лет. Старость не грозит настоящему искателю, вечный порыв никогда не ограничивается человеческим веком; внешность изнашивается, но тем ярче, блистательнее и самовластнее внутреннее сияние. Подобные дарования не сопряжены ни с красивой наружностью, ни с физической мощью, ни с проницательностью, ни с какими другими людскими достоинствами. Невзирая на происхождение, на пол, на лета, на эпоху и климат, удостаивает природа своей благосклонности некоторых людей, чья душа блаженствует, оплодотворенная».
Интересный вопрос: кто из поэтов действительно имел видение Музы, а кто писал о Музе просто в рамках поэтической традиции, то есть как об одушевленном, персонифицированном вдохновении? Правда ли видел, например, Пушкин Музу или это для него всего лишь образ?
В те дни, когда в садах Лицея
Я безмятежно расцветал,
Читал охотно Апулея,
А Цицерона не читал,
В те дни, в таинственных долинах,
Весной, при кликах лебединых,
Близ вод, сиявших в тишине,
Являться Муза стала мне.
Моя студенческая келья
Вдруг озарилась: Муза в ней
Открыла пир младых затей,
Воспела детские веселья,
И славу нашей старины,
И сердца трепетные сны.
Далеко не все готовы рассказать о подобном свидании прямо – из целомудрия.