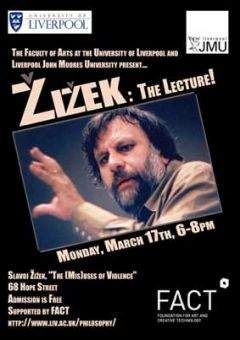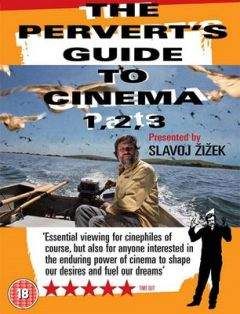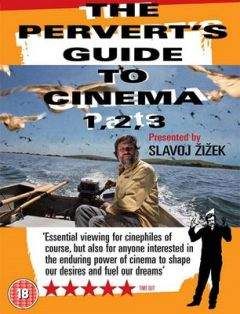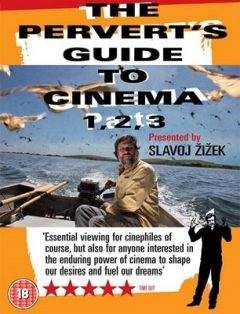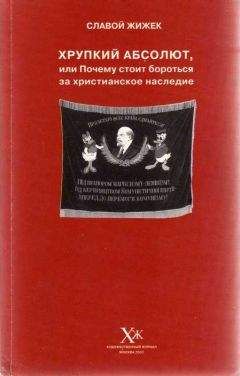Контраргумент напрашивающийся здесь с кажущейся самоочевидностью — разве это все не полнейший абсурд, поскольку у Сада элемент, который занимает место безусловного предписания, максима, которой субъект должен категорично следовать, более не является кантовским универсальным требованием — Следуйте своему долгу! Но его наиболее радикальной противоположностью, предписанием довести до их крайнего предела всецело патологические, случайные причуды, которые доставят вам удовольствие, безжалостно низведя всех ваших окружающих до уровня инструментов для вашего удовольствия.
Тем не менее, важно осознать общность между этой чертой и появлением фигуры «садиста» мучителя-палача как действующего «субъекта высказывания» универсального этического утверждения — приказания. Садовское движение от кантовского Почтения — к — богохульству, т.е. от уважения Другого (равного вам), его свободы и автономности, от постоянного отношения к нему также как к цели-в-себе, к сведению всех Других именно к несущественным инструментам, которые безжалостно используются, — определенно соответствует тому факту, что «субъект высказывания» Морального предписания, невидимый у Канта, принимает конкретные черты палача у Сада.
Итак, Сад осуществил таким образом разрыв между двумя элементами, которые, по Канту, являются синонимичными и совпадающими [7]: утверждение безусловного этического предписания, моральная универсальность этого требования. Сад сохраняет структуру безусловного предписания, устанавливая в качестве ее содержания предельную патологическую сингулярность.
И, кроме того, решающий момент состоит в том, что этот разрыв не является эксцентричностью Сада — он остается скрытым как возможность в том самом фундаментальном напряжении, которое конститутивно для картезианской субъективности. Уже Гегель осознавал это изменение кантовского всеобщего в крайнюю идиосинкратическую случайность: не является ли важнейшим пунктом его критики кантовского этического императива то, что поскольку императив бессодержателен, Кант должен наполнить его неким эмпирическим содержанием, т.е. присуждая случайному особенному содержанию форму всеобщей необходимости?
Образцовым случаем патологического, случайного элемента, возведенного в статус безусловного требования, является, конечно, актер, всецело отождествленный с его актерской миссией, следуя ей свободно без всякой вины, как внутреннему принуждению, не будучи способным выжить без него. Печальная судьба Жаклин дю Пре представляет нам женский вариант раскола между безусловным предписанием и его лицевой стороной, серийной всеобщностью безразличных друг другу эмпирических объектов, которые должны быть принесены в жертву в следовании собственной Миссии [8]. (Крайне интересно и плодотворно прочитать историю жизни дю Пре не как «реальную историю», а как мифическое повествование: что так поражает здесь — это то как она следует за предопределенными очертаниями семейного мифа, сходного тем же самым (контурам) как и в истории Каспара Хаузера, в которой индивидуальные особенности таинственно воспроизводят характерные черты из древних мифов. Безусловным предписанием дю Пре, ее влечением, ее безусловной страстью было ее искусство (когда ей было 4 года, увидев кого-то играющим на виолончели, она тут же немедленно заявила, что это то кем она хотела бы быть). Это возвышение ее искусства до безусловного низвело ее любовную жизнь до серий встреч с мужчинами, которые были в конечном счете все заменимыми, один также хорош как и другой — о ней говорили, что она была серийным «пожирателем мужчин». Она таким образом заняла место, обычно сохраняемое для актера мужчины — не удивительно, что ее долгая трагическая болезнь (множественные склерозы, из-за которых она тяжело умирала с 1973 по 1987), была воспринята ее матерью как «ответ реального», как божественное наказание не только за ее беспорядочную сексуальную жизнь, но также и за ее чрезмерную преданность ее искусству…
Тем не менее, это не вся история. Решающий вопрос таков: переводим ли кантовский моральный закон во фрейдовское понятие суперэго или нет? Если ответ — да, тогда «Кант с Садом» — действительно означает, что Сад — истина кантовской этики. Если, тем не менее, кантовский моральный закон не может быть отождествлен с суперэго (поскольку, как Лакан сам сформулировал это на последних страницах Семинаров XI, моральный закон является эквивалентом самому желанию, тогда как суперэго определенно питается компромиссами субъекта с его/ее желанием, т.е. вина поддерживаемая суперэго, свидетельствует о том факте, что субъект где-то предал или пошел на компромисс с его/ее желанием) [9], тогда Сад не является всецело истиной кантовской этики, но формой ее извращенной реализации. Короче, далеко не будучи «более радикальным чем Кант», Сад выразил то, что случается, когда субъект изменяет истинную строгость кантовской этики.
Это различие является решающим в его политических следствиях: поскольку либидинальная структура «тоталитарных» режимов является извращенной (тоталитарный субъект принимает позицию объекта — инструмента удовольствия Другого), «Сад как истина Канта» означало бы, что кантовская этика эффективно укрывает тоталитарные потенциалы; тем не менее постольку поскольку мы понимаем кантовскую этику как именно запрещающую субъекту принимать позицию объекта — инструмента удовольствия Другого, т.е. как призывающую субъекта принять полную ответственность за то, что он провозглашает своим Долгом, тогда Кант является антитоталитарным par excellence…
Сновидение об инъекции Ирме, которое Фрейд использовал в качестве показательного случая, чтобы проиллюстрировать свою процедуру анализа сновидений — это сон об ответственности — (собственной ответственности Фрейда за неудачу в его лечении Ирмы) — уже один этот факт показывает, что ответственность является ключевым фрейдовским понятием.
Но как нам следует понимать это? Как нам избежать ловушки mauvaise foi сартровского субъекта, ответственного за его экзистенциальный проект, т.е. экзистенциального мотива онтологической вины, которая присуща конечному человеческому существованию как таковому, равно как и противоположной ловушки «взваливания» ответственности на Другого («поскольку Бессознательное — есть дискурс Другого, я не ответственен за его образования, это — большой Другой говорит через меня, я просто его инструмент…»)?
Лакан сам указал путь из этого тупика, отсылая к кантовской философии как решающей предпосылке психоаналитической этики долга «по ту сторону Добра». Согласно стандартной псевдо-гегельянской критике, кантовская универсалистская этика категорического императива не может принять во внимание конкретную историческую ситуацию, в которую субъект погружен, и которая предусматривает определенное содержание Добра: что ускользает от кантовского формализма — так это исторически определенная особенная Субстанция этической жизни.
Однако, этому упреку можно противопоставить утверждение о том, что подлинная сила кантовской этики находится в этой самой формальной предопределенности: моральный закон не говорит, в чем состоит мой долг, он просто говорит, что мне следует исполнять свой долг, т.е. невозможно извлечь конкретные нормы, которым я должен следовать в моей специфичной ситуации из самого морального закона, который подразумевает, что субъект должен принять ответственность за перевод абстрактного предписания морального Закона в серии конкретных обязательств.
Именно в этом смысле мы склонны провести параллель с «Критикой Способности Суждения» Канта: конкретная формулировка определенного этического обязательства имеет структуру эстетического суждения, т.е. суждения, которым, вместо просто применения универсальной категории к определенному объекту или подведения этого объекта под уже данное всеобщее определение, Я как бы изобретаю его всеобщее — необходимое — обязательное измерение и, таким образом, возвышаю этот конкретный случайный объект до уровня этической Вещи.
Т.е. всегда существует нечто возвышенное в высказывании суждения, которое определяет наш Долг: в нем Я «поднимаю объект до уровня Вещи» (лакановское определение сублимации). Полное принятие этого парадокса вынуждает нас отрицать любую ссылку на «долг» как на оправдание: «Я знаю, что это тяжело и может быть болезненно, но что я могу сделать, это мой долг…» Стандартный девиз этической строгости звучит так: «Нет оправдания неисполнению собственного долга!»; хотя кантовское «Du kannst, denn du sollst!» (Ты можешь, потому что ты должен!)», кажется предлагает новый вариант этого девиза, он имплицитно дополняет его своей гораздо более сверхъестественной инверсией: Нет оправдания для исполнения собственного долга! Ссылку к долгу как к оправданию исполнения нашего долга следовало бы отвергнуть как лицемерную; достаточно вспомнить вошедший в пословицу пример сурового садистичного учителя, который подвергал своих учеников безжалостному наказанию и пытке. Конечно, его оправданием себе (и другим) является: «Я сам нахожу это суровым оказывать такое давление на бедных деток, но что я могу поделать — это мой долг!» Более подходящий пример — это пример сталинского политика, который любит человечество, но тем не менее совершает страшные чистки и казни, его сердце обливается кровью, в то время как он делает это, но он не может помочь ему, это его Долг на пути к Прогрессу человечества…