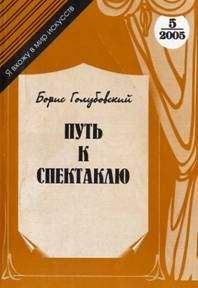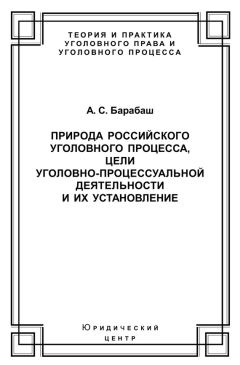Почему я говорю об этих этапах? Потому, что ликвидация одного из них ведет к формальному построению спектакля.
Обрушивающиеся на актеров с первых же репетиций самые выразительные мизансцены не будут ими приняты органично. Они чужие, актеры еще не “размяты”, не обжились на сцене. На репетиции мизансцена возникает естественно, актер становится активнее и вносит свою лепту в сцену. Будем смотреть в глаза суровой действительности; очень многие актеры любят быть “исполнителями”, получать задания в окончательном виде. При малейшей попытке изменить что-либо возникают неурядицы, протесты, режиссера обвиняют в неподготовленности, несерьезности, отказе от собственных решений. И так бывает. Борьба с этим часто становится почти единственным занятием режиссера на репетиции.
А где же тогда возможность самостоятельной творческой работы актера? Актер имеет право на свое видение, свое самостоятельное чувствование роли. Именно поэтому К.С.Станиславский возражал против мелочных режиссерских экспликаций, в готовом виде преподносящих актеру на первой же репетиции разжеванный образ, задачи и т.д.
Режиссер должен вести актера к своему видению спектакля, заразить его своими мыслями, волнением, чувствами. И, заразив актера своим решением, режиссер обязан раскрепостить творческую инициативу исполнителя, помогая ему создать свой актерский образ, точнее и ярче раскрывающий смысл всего спектакля. Точный и яркий режиссерский замысел никогда не бывает помехой актеру. Каковы бы не были пути режиссера к созданию образа спектакля, замысел должен опираться на живого человека – актера. Только актер, увлеченный и убежденный замыслом режиссера, способен вдохнуть жизнь в этот замысел, заставить жить спектакль полнокровной жизнью.
Самое дорогое и интересное, ради чего стоит работать в театре – это взаимообогащение режиссера с актерами, художником, композитором. Можно идти дальше – к выпуску премьеры. Если на репетициях в оформлении, когда рабочие сцены, осветители, словом, все цеха, присутствуют на репетициях, не сидят на сцене за кулисами и не наблюдают за ходом работы, и в зале не появляются другие, свободные в данный момент, – это значит, что не все в порядке. Нельзя, глупо и даже преступно по отношению к спектаклю и коллективу презирать мнение цехов – ведь и они творцы. А когда режиссер или актеры видят заинтересованные лица – тогда все в порядке! Спектакль будет жить!
Самое трудное – первая мизансцена. Особенно когда ее строишь на сцене. Я стараюсь начинать со второстепенных эпизодов, чтобы на них размяться, понять стилистику, ритмы, а то “подорвешься” на начале – а дальше не войдешь в рабочую форму. Кружусь вокруг первой мизансцены, ищу варианты. Она определяет дальнейший ход работы. Невольно вспомнил свою первую мизансцену в профессиональном театре. В 40-м году Ф.Н.Каверин ставил пьесу американского драматурга Ирвина Шоу “Мирные люди” и доверил мне, ассистенту, еще студенту, провести самостоятельно репетицию достаточно ответственной сцены. Сюжет по XXI веку примитивен и до противности знаком: гангстер Гофф соблазняет дочь простого ремесленника Стеллу и приглашает ее в самый дорогой и престижный ресторан “Велдорф Астория”. Она надевает первый в жизни вечерний туалет. Сегодня такую сцену можно поставить, не читая пьесы, так все знакомо по фильмам. Но в 40-е годы ни актриса, ни, тем более, я, не знали, “с чем это едят”: вечерний туалет, ужин в ресторане и т.д. Пришлось выяснять “предлагаемые обстоятельства”: пошел в Дом моделей, попросил консультацию о туалетах, особое внимание обратил на шлейф – готовился к репетиции. Все продумал: Гофф не сентиментален, знает, чего хочет. Стелла пытается уйти от разговора, встает с дивана, но Гофф спокойно наступает на шлейф – почти незаметно, одним движением ноги – и продолжает вежливо и неумолимо настаивать на своем. А она вертится, как жук на булавке, пытаясь спасти платье и репутацию.
Когда у режиссера рождается решение ритмов спектакля? По-моему, оно подсознательно возникает при первой читке пьесы, еще не осознанное, не сформулированное, но уже властно заявляющее о себе при ощущении дыхания жизни на сцене и в тех еще смутных видениях каких-то сцен – то ли просторов Волги, на которую смотрит Лариса в “Бесприданнице”, то ли в интонации Кречинского: “Сорвалось!” – то ли в прощальном вальсе матросов, уходящих на фронт в “Оптимистической трагедии”... Если режиссера спрашивают, когда он начнет работать над ритмами, это нужно считать за предсказание провала спектакля: ритмом пронизаны самые первые репетиции. Актер, забывший принести с собой карандаш, чтобы записать на застольной репетиции исправления в тексте роли, уже выпадает из ритма творчества.
Пространство насыщено ритмом. Его нужно вскрыть во всех составных частях спектакля и, прежде всего (я не говорю об актерах – это отдельная серьезнейшая тема) он в самых первых карандашных набросках режиссера. Ритм заключен в чередовании планов, в распределении контрастности и жанровых решений, столкновении не только драматургических, но и пластических, как в решении павильонов или сцен на природе. Острота ритмического построения зависит от умения режиссера увидеть в пространстве возможности приближения и удаленности действия от зрителя, ломки планшета в использовании его высоты и ракурсов.
Увлечение крупным планом пришло в театр из кинематографа. Но если вспомнить историю театра, то крупный план был во всю использован великими актерами Малого и Александринского театров, замечательными провинциальными гастролерами: они выходили на авансцену, не обращая внимания на оформление, шли к своему любимому зрителю и сообщали ему свои тайны, радости, печали, обличали пороки и прославляли добродетель. И зритель благодарно отвечал им. Кинематограф (не буду погружаться в киноистории) довел старинный прием до совершенства, придал ему особый блеск и выразительность. Актер театра, совместно с режиссером, потребовал, чтобы зрители увидели его лицо, глаза, даже движение пальцев, так же подробно, укрупненно, как в кинофильме. Отсюда пошел эффект малых сцен. Режиссеру в наши дни трудно уговорить актера играть где-нибудь на середине сцены, даже почти непосредственно за занавесом, не говоря уж о третьем плане где-нибудь в глубине. В этом таится очень серьезная опасность: в любом фильме режиссер пользуется крупным планом считанное количество раз, понимая, что нельзя злоупотреблять таким сильным средством воздействия. Иначе зритель привыкнет к обилию “крупняков” и не будет испытывать эмоционального удара. Тоже происходит и в театре. Это понятно: все настойчивее ощущается потребность “залезть в душу” образа (или актера?), сказать самое важное прямо в глаза, установить предельно близкий, интимный контакт со зрителем, чтобы высказать ему свои мысли, привлечь на свою сторону: время требует и от театра, и от зрителей гражданской активности! И здесь чувство меры является решающим.
Пьеса В.Киселева “Предел усталости” затрагивала сложные этические проблемы, между действующими лицами возникали бурные споры, абсолютно правых и абсолютно ошибающихся не было. Истина рождается в споре. Режиссер и художник в Театре им.Гоголя показали прогон спектакля в репетиционном зале. У всех присутствующих создалось мнение, что спектакль должен получиться серьезным, волнующим. Однако ожидания не оправдались. Почему-то уже в середине 1-го акта зрители потеряли интерес к столкновениям действующих лиц, а во 2-м просто стали уходить из зала. В чем же причина столь неожиданного провала? Режиссер, желая укрупнить идейные столкновения, вынес все оформление, все действие на просцениум, оставив самую сцену за задником, повешенным на уровне театрального занавеса. Два акта шли на самом наипервейшем плане. Авторы спектакля, потеряв пространство, несмотря на приближенность зрителя, потеряли силу воздействия. В спектакле все стало одинаково значительно, чередования крупного, среднего и общего планов потеряно.
В спектакле того же театра “Обманщики” (по фильму французского режиссера Марселя Карне), опыт крупного плана оказался более удачным. При составлении перечня эпизодов, о котором мы уже упоминали, выяснилось, что большинство сцен (кино!) проходит в баре. Здесь герои встречаются, проводят свободное время, влюбляются, ревнуют, страдают, размышляют о жизни. Где строить эти сцены? За столиками? Скучно – все сидят, к тому же каждый раз их нужно ставить и убирать. Где поставить стойку бара – центральное место для встреч и объяснений? Если она будет на первом плане, то скоро надоест, к тому же есть много эпизодов, где она будет мешать действию. А ведь режиссер с первого чтения сценария, вне зависимости от фильма, представлял себе именно такую стойку – как лобное место, как исповедальню. Режиссер и художник П.Кириллов нашли выход: бар, в котором хозяйничала барменша, занимал постоянно две боковые точки на просцениуме. А центральная стойка, у которой должны проходить главные сцены, была утоплена в закрытой щитами оркестровой яме. Когда должен начаться эпизод у стойки, она поднималась двумя рабочими, закреплялась снизу и актеры играли почти “на носу” у зрителей. Отпала необходимость форсировать звук, общение с партнерами стало интимным, глубинным. К тому же и зрители, не только первых рядов, оказывались в атмосфере бара, жизни молодых людей, стремящихся освободиться “от обмана”. В конце сцены стойка убиралась вниз.