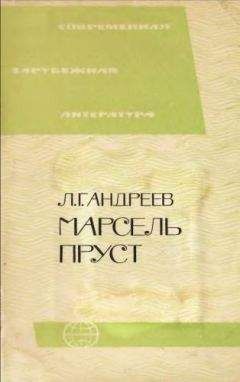Подсознательное, интуитивное призвано занять в произведении Пруста ключевые позиции. Особое и предпочтительное значение придавал писатель состоянию сна, точнее полудремотному состоянию, когда еще спит разум, — «прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещения, сопоставляя обстоятельства, оно — мое тело — припоминало…». Словесная ткань повествования, необычайный синтаксис Пруста — непосредственное выражение пассивного, а порой и полудремотного состояния, регистрирующего внешние и внутренние реакции. Стиль Пруста соединяет в себе свойственную писателю рационалистичность, дидактизм и импрессионистическую непосредственность самого построения фразы. Невозможно представить себе, чем закончится начатое Прустом предложение, как построится его капризная линия. В языке Пруста как бы ничего заранее не продумано, язык рождается вместе с мыслью и чувством, фраза разливается как поток, обрастая сравнениями, перечислениями, сопоставлениями, метафорами, иногда чрезмерно усложняясь. В той или иной степени языку Пруста всегда была присуща витиеватость, салонная прециозность, вычурность.
Склонность Пруста к аналогиям исключительно велика, поскольку она исходит из его главных идей, из постоянной взаимопроницаемости времен и состояний, реального мира и мира воображения. Метафоричность романа — не «прием». В основе метафоры — ощущение «соответствий», вечности бытия. В самой плоти романа заключен аллегоризм, ежеминутно сопоставление может «вырваться» и стать чуть ли не самостоятельным произведением, вставной повестью о Сване, очерком о произведении искусства и т. п. Целый мир тончайших наблюдений и разнообразных сведений живет в романе лишь благодаря вызвавшей их ассоциации, выступая в роли тропов. Пруст любил нагнетать определения, детализируя, расщепляя предмет, сопоставляя его качества в неожиданных, нередко парадоксально несогласуемых определениях.
Пруст склонен заменить макрокосм больших общественных проблем микрокосмом внутренних переживаний. Подлинной и наиболее богатой Пруст считал жизнь внутреннюю, которой придавал более общий смысл, постоянно употребляя метафорические сопоставления. Его роман основан на разрушении объективного соотношения величин. Он называл «глупостью» самое предположение, что «крупный масштаб социальных явлений» позволяет глубже «проникнуть в человека», и видел единственный к тому путь в анализе «глубин индивидуальности», т. е. противопоставляя индивидуальность «масштабным событиям» и вообще событиям социально-политического ряда. В подлинно величайшее по значению, по тщательной художественной обработке событие превращается поцелуй матери перед сном и те усилия, которые тратились рассказчиком в детстве, чтобы этот поцелуй получить. С другой стороны, мировая война, дело Дрейфуса оказываются в мире Марселя Пруста величинами малозначительными, второстепенными, — в этом мире своя градация ценностей, определяемая значением события для «я», для сосредоточенной в себе личности. Нельзя забывать об эгоцентризме и индивидуализме героя-рассказчика, как исходном пункте философско-эстетических построений Пруста.
Своеобразие искусства Пруста — ив фотографировании микрокосма субъективных впечатлений, в их расчленении как бы на мельчайшие составляющие величины. Книга оказывается гигантской по размерам — так же как разрастается капля под взглядом мощного микроскопа. Рассказчик — необычайно чувствительная натура, словно «аппарат» для улавливания и фиксации впечатлений от непосредственно ощущаемого мира, который, в свою очередь, «оборачивается» к воспринимающему своей чувственной стороной, своей «плотью», обволакивающей «я», запахами, цветами, звуками. С детских лет он обладал способностью остро видеть и необычайно интенсивно воспринимать эту сторону реальности, запоминая на всю жизнь различные мелочи и детали («какая-нибудь кровля, блеск солнца на камне, запах…», и вот он «застывает пред ними, вглядываясь, внюхиваясь», прилагает все силы, «чтобы точно запомнить линию крыши, окраску камня»). И именно при созерцании таких деталей — куполов местной церкви — в рассказчике возникла неудержимая потребность в творчестве, которую он немедленно удовлетворил, описав увиденное и почувствовав при этом острейшее чувство наслаждения, переживаемое им и при работе «инстинктивной памяти».
Стиль Пруста, его бесконечная фраза, медленно развертывающаяся, — это бесконечная лента чувств, это стиль гигантского монолога, стиль безостановочного «говорения» и это в то же время фиксация расчленения материи на атомы, это образ, который стремится быть точным в каждой мелочи, в каждой детали, заботливо подбираемой фразой. К тому же мир, отраженный Прустом, — не застывший мир, и движется, тянется фраза, не способная остановиться:
«…B то время как судомойка, — невольно сообщая блеск превосходству Франсуазы, как Заблуждение, по контрасту, делает более блистательным торжество Истины — подавала кофе, который по мнению мамы, был не более, чем горячей водичкой, и приносила затем в наши комнаты горячую воду, которая была только чуть теплой, я растягивался на кровати, с книгой в руке, в своей комнате, трепетно охранявшей свою зыбкую прозрачную свежесть от послеполуденного солнца, луч которого все же ухитрялся просунуть сквозь щелку в прикрытой ставне золотистые свои крылья и замирал неподвижно в уголку оконной рамы, словно застывший на цветке мотылек. В комнате царил полумрак, едва позволявший читать, и ощущение яркого дневного света давали мне только доносившийся с улицы Кюр стук (это Камю, извещенный Франсуазой, что тетя не «отдыхает» и что можно, значит, шуметь, заколачивал какие-то пропыленные ящики), который, отдаваясь в глухом воздухе, характерном для жаркой погоды, казалось, каскадом рассыпал далеко кругом кроваво-красные звезды; а также мухи, исполнявшие передо мной, в негромком концерте, своеобразную летнюю камерную музыку; музыка эта не вызывает представления о лете таким способом, как мелодия человеческой музыки, услышанная случайно в погожий летний день, напоминает нам его впоследствии; она соединена с летом более тесной и более необходимой связью: рожденная солнечными днями и возрождающаяся лишь вместе с ними, заключающая в себе какую-то частицу их сущности, она не только пробуждает их образ в нашей памяти, но служит гарантией их возврата, их действительного присутствия, обступающего нас со всех сторон и как бы непосредственно осязаемого»[72]… и т. д., и т. п.
Мы взяли совсем незначительный кусочек, выхватили одно лишь мгновение из романа Пруста. Но тем заметнее особенное и виртуозное мастерство писателя, тем заметнее, как на узкой основе, в крайне ограниченных пределах вырастает необычайно богатая оттенками, многообразная художественная ткань. Сообщая только о том, что «растягивается», рассказчик захватывает в сеть своей фразы серию одновременно или даже в известной последовательности происходящих событий, благодаря чему и судомойка, и комната включаются в единый поток восприятия («все перечувствовать»), сохраняя при этом самостоятельность реально существующего предмета. Оказавшись в комнате вместе с героем, мы необыкновенно живо представляем себе и ее полумрак, и яркий свет вне дома. Пруст дает «объемное» ощущение, сочетая впечатления и цветовые, и звуковые, вся эмоциональная гамма проигрывается перед читателем, все органы чувств приведены в действие, создавая эмоционально-интенсивное восприятие реальности. Подвижная фраза необыкновенно гибка и переменчива, она следует логике впечатлений. Вот судомойка вызывает сравнение с обычно подающей герою кофе Франсуазой, вот само принесенное кофе оценивается неизменным для рассказчика авторитетом, материнским, вот, «растянувшись», герой осязает комнату, оживленную целой метафорической поэтической картиной. Ни одна попутная деталь не опускается, все фиксируются или в своей точно названной функции, или же в своем переносно-образном значении: стук — это заколачивание пропыленных ящиков, но мухи — исполнители «летней камерной музыки». Пруст непринужденно перемещается в совершенно различные сферы. В одной и той же фразе у него оказывается точно наименованная улица, на которой происходит такое заурядное дело, каким является заколачивание ящиков, даже имя рабочего названо, даже сообщено, что взялся он за это дело, ибо Франсуаза сказала, что тетя не отдыхает и стучать можно, — и вдруг вслед за натуралистическим снимком бытовой оценки развертывается цепь внутренних ассоциаций и сопоставлений, бытовая доскональность сменяется интенсивной работой воображения, повествование уходит «вовнутрь», абстрагируется, далеко отступая от банальной первопричины, от расшумевшихся в запертой комнате мух.