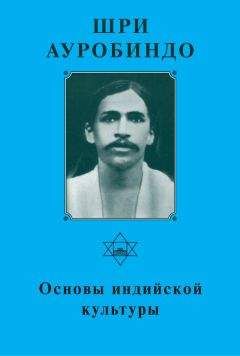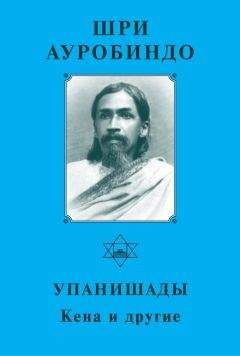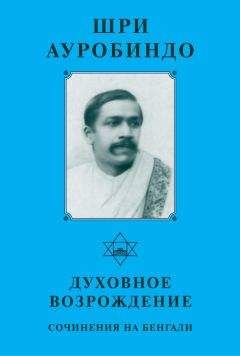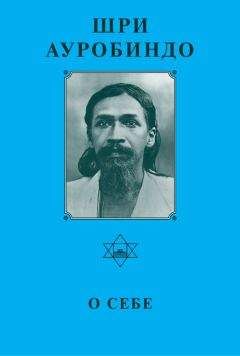Сильнее всего волнует Индию мысль о неиспользуемых духовных возможностях, которыми изо всех земных существ наделен один только человек. Древняя арийская культура принимала весь человеческий потенциал, но эту возможность ставила превыше всего и жизнь делила по степени реализации духовного потенциала на четыре класса и на четыре стадии. Буддизм поначалу неумеренно подчеркивал идеал аскезы и монастырской жизни, отказываясь от постепенности реализации, нарушая жизненное равновесие. Победившая система оставила только две категории людей: семьянин и отшельник, монах и мирянин – это деление сохраняется и по сей день. За нарушение равновесия Дхармы буддизм и критикуется столь резко в «Вишну-пуране», ибо в конечном счете неумеренное преувеличение аскезы и жесткая система противоположностей привели к ослаблению социальной жизни. Но в буддизме была и другая сторона, сторона, обращенная к действию и к сотворению, которая вносила в жизнь новый свет, новый смысл и давала ей новые моральные силы и идеи. На исходе двух величайших тысячелетий индийской культуры появился Шанкара с его возвышенной концепцией иллюзорности земного. Отныне ценность жизни упала, ибо жизнь стала нереальностью или явлением относительным, в конечном счете не стоило и жить, не стоило ни стремиться, ни упорствовать в достижении устремлений. Однако эту догму не все принимали, она встретила сильное противодействие: противники Шанкары даже объявляли его замаскированным буддистом. Позднее на индийскую философскую мысль оказала сильнейшее влияние концепция Майи, однако нельзя сказать, что народная мысль и чувство были полностью сформированы ею. НародуоказаласьближерелигияпылкойлюбвикБожеству, которая рассматривает жизнь как Божественную игру, Лилу, а не как мираж светотеней, искажающий белое безмолвие вечности. Если народ не противился суровому идеалу, то он его очеловечивал. Образованная Индия только недавно согласилась с мыслями английских и немецких ученых, некоторое время полагавших, будто шанкаровская Майявада есть наивысшее достижение нашей философии, если не вся философия, отведя Шанкаре исключительное место. Но и эта тенденция вызывает сейчас растущее неприятие, и речь идет не о замене духа без жизни на жизнь без духа, а об одухотворении ума, жизни и материи. Справедливо однако и то, что аскетический идеал, который в величественном здании нашей древней культуры играл роль тонкого шпиля жизни, вонзавшегося в вечное бытие, позднее превратился в тяжеловесный купол, под бременем отрешенной монументальности которого могло обрушиться все здание.
Но и здесь нам необходим правильный взгляд на вещи, свободный от преувеличений и ложных акцентов. Мистер Арчер втискивает в свой список антижизненных индийских идей также и идеи кармы и реинкарнации. Это просто нелепо, это глупо – говорить о реинкарнации как о доктрине ничтожности сиюминутной жизни по сравнению с бесконечной чередой былых и будущих рождений. Доктрина переселения душ и кармы объясняет нам, что у души есть прошлое, которым и обусловлено наше нынешнее рождение и существование; у души есть будущее, которое формируется нашими нынешними поступками; наше прошлое уже приняло, а наше будущее еще примет форму повторяющихся земных рождений, карма же, то есть наши собственные деяния, есть та сила, которая своей преемственностью и развитием, субъективно и объективно, определяет природу и характер этих повторяющихся рождений. Нет здесь ничего, что принижало бы значение нынешней жизни. Напротив, доктрина открывает огромные перспективы и в очень большой степени подчеркивает ценность усилия и действия. Характер сиюминутного поступка приобретает колоссальное значение, потому что он предопределяет собой не только наше непосредственное, но и более отдаленное будущее. Индийская литература буквально пронизана мыслью, глубоко проникшей и в народное сознание, мыслью о том, что сосредоточение всех душевных сил и энергии на совершаемом действии, тапасья, придает ему чудодейственную силу для достижения желаемого, исполнения материальных или духовных желаний. Несомненно, наша нынешняя жизнь утрачивает исключительное значение, которое мы ей придаем, когда рассматриваем ее только как нечто мимолетное во Времени, нечто, больше никогда не повторимое, как наш единственный шанс, не имеющий никакого продолжения. Но преувеличенная, настойчивая сосредоточенность только на настоящем заключает душу человека в темницу текущего момента, она способна сообщить действию лихорадочную напряженность, но пагубна для покоя, радости и величия духа. Несомненно также, что представление о наших нынешних бедах как о результате наших собственных деяний в прошлом придает индийскому уму спокойствие, примиренность и покорность, которые несдержанный западный разум находит трудными для понимания или вообще непереносимыми. Эти черты могут выродиться в национальную слабость, привести к временам упадка и бед, превратиться в квиетистский фатализм, способный угасить пламя устремленности к возрождению. Однако такой ход событий отнюдь не неизбежен и не он прослеживается в анналах более могучего прошлого нашей культуры. Там акцент делается на действии, на тапасье. Правда, эти настроения со временем усилились под влиянием буддистской догмы о последовательности рождений как о кармической цепи, из которой душа может вырваться только в вечное безмолвие. Доктрина оказала сильное воздействие на индуизм, но ее мрачноватый аспект связан не с самой идеей перевоплощения душ, а с другими элементами, заклейменными виталистической мыслью Европы в качестве аскетического пессимизма.
Пессимизм не является особенностью индийской мысли – это составная часть философии любой развитой цивилизации. Это признак культуры уже состарившейся, плод ума, который долго жил, многое испытал, познал жизнь и обнаружил, что она полна страдания, познал радость и победу и пришел к выводу, что все это суета, суета сует и томление духа, что нет ничего нового под солнцем, а если и есть, то лишь день длится новизна, не более. Пессимизм так же широко распространялся в Европе, как и в Индии, и уж конечно поразительно, что материалистичнейший из народов обращает против индийской духовности обвинение в небрежении ценностью бытия. Ибо что может быть мрачнее материалистического взгляда на человеческую жизнь, как на нечто чисто физическое и эфемерное. В самой аскетичной индийской мысли нет ничего равного черной тоске иных разновидностей европейского пессимизма, этого города беспросветной ночи, где нет радости сейчас и нет надежд на то, что после; и в индийской литературе нет ничего похожего на смертную тоску и страх перед смертью и распадом плоти, которыми буквально пронизана литература Запада. Нота аскетического пессимизма, часто звучащая в христианстве, звучит на чисто западный лад, ибо ее нет в учении самого Христа. Средневековая религия с ее крестом, спасением через страдание, миром, где правит Сатана и плоть, где в загробной жизни человека ожидает адский огонь, полна боли и ужаса, чуждых индийскому уму, которому вообще непонятно, что такое религиозный страх. Земное страдание существует, но за гранью скорби оно растворяется в блаженстве духовного покоя или экстаза. Учение Будды подчеркивало скорбную долю человека и бренность мира, но буддистская Нирвана, которая завоевывается героическим духом морального самообуздания и покойной мудрости, есть состояние вечного блаженства и покоя; в отличие от христианских небес Нирвана доступна не избранным, но каждому; это не тупое облегчение, достигнутое механическим освобождением от боли и страдания, жалкая нирвана западного пессимизма, животное окончание жизни материалиста. Даже доктрина иллюзорности мира не есть священное писание скорбей, но представление о конечной нереальности и радости, и горя, и всего земного существования. Она признает практическую реальность жизни и допускает ее ценности для тех, кто живет в Неведении. И как вся индийская аскетическая философия, эта доктрина тоже открывает перед человеком возможность совершить великое усилие, укрепиться в светоносном знании и могучм усилием воли подняться к абсолютному покою или абсолютному блаженству. Индийская мысль знает благородный пессимизм в отношении повседневной человеческой жизни, глубокое чувство человеческого несовершенства, отвращение к его суетливой невежественности и ничтожности, но другая сторона медали – это непобедимый оптимизм в отношении духовных возможностей человека. Если философ этой школы и не верит в идеал гигантского материального прогресса расы или в совершенствование заурядного приземленного человека, то он убежден в возможности духовного прогресса каждого и в конечном совершенстве, неуязвимом для ударов жизни. И этот пессимизм в отношении жизни не есть единственная тема индийской религиозной мысли: в своих наиболее популярных формах она воспринимает жизнь как Божественную игру и прозревает за условиями земного существования извечную близость каждого человека к Богу. Светоносное восхождение в Божественное всегда считалось венцом самореализации человека, однако вполне посильным для него. Едва ли такая теория бытия может рассматриваться как мрачная или пессимистическая.