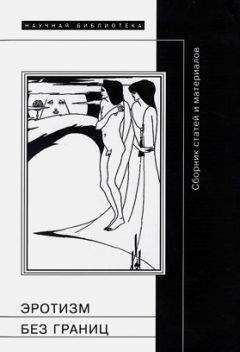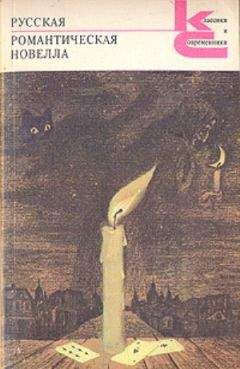(Рис. 3). Рисунок А. Любимова Натальи Волоховой в роли Царевны-Саломеи.
(Театр и искусство. № 44. 1908. С. 767).
Постановка Евреинова и оформление сцены Н. Калмаковым были стилизованными и эротическими. Декорации напоминали работы О. Бердслея, о котором Евреинов в 1912 г. опубликовал небольшую монографию. Как и Блок, Евреинов был символистом, для которого разного рода покровы представляли собой метафоры, облекающие видимый мир и одновременно дающие возможность проникнуть за его пределы; покровы означали для обоих самую суть символистской эстетики. Обсуждая пьесу Уайльда, поэт Н. Минский пишет, что «Саломея молится телом в движении семи покрывал»[241]. Скрывающие и раскрывающие тайну тела, они изображали прозрачность — апелляцию к символу, образующему ткань символистского искусства и поэзии[242].
Обращаясь с речью к труппе театра Веры Комиссаржевской, Евреинов утверждал, что в оценке Уайльда искусство «должно быть скорее покрывалом, чем отражением» видимого мира, и что стилем «Саломеи» является синтез, а не его историческая достоверность. По словам Евреинова, Уайльд смешал рококо с искусством Древней Греции, завораживавшими красками Востока и волшебством модернизма[243]. Подобно Блоку, Евреинов верил в символическое значение цвета: тело Крестителя было светящимся зеленым с белыми ребрами, что символизировало святость, а его волосы были лиловыми; похожее на сфинкса лицо Иродиады обрамлял голубой пудреный парик; кожа Саломеи была оттенена розово-сиреневым, ее струящиеся волосы были красными с золотыми прядями. Обозреватель Биржевых ведомостей пишет, что «когда Царевна пляшет, — все декорации заливаются красным светом, который все сгущается и сгущается, приближался к только что пролитой крови (Крестителя). Похожие на змей деревья, небо и даль „кровавятся“, так сказал бы Бальмонт, и это именно то слово, которое здесь нужно. Этот перелив пестрой декорации в один цвет достигается с большим искусством, и впечатление получается феерически-жутким»[244].
(Рис. 4). Эскиз костюма Николая Калмакова для Царевны-Саломеи в постановке Ник. Евреинова.
(Коллекция Нины и Никиты Д. Лобановых-Ростовских, Лондон).
Утверждают, что главная декорация была выполнена в форме женских гениталий[245]; если это было и в самом деле так, то она наверняка также способствовала запрещению спектакля. Один из сохранившихся эскизов костюма Саломеи, подписанный значком Калмакова в виде стилизованного фаллоса, изображает обнаженную женскую фигуру, с туфельками эльфа, пушистым воротником и огромной прической пышных желтых волос; на всем теле и лице вытатуированы черные колечки (рис. 4). Хотя на эскизе Саломея, видимо, одета в трико, красные соски ее маленьких андрогинных грудей символически обозначают ее обнаженность. Я думаю, что этот рисунок костюма изображает царскую дочь сразу после ее разоблачения, что подтверждают и множество черных точек, роящихся вокруг ее тела и создающих эффект кругового движения. В спектакле Евреинова Саломея была покрыта белыми покровами невинности, спадавшими во время пляски, и в то время, когда слетал последний, свет на сцене мерк[246]. Таким образом, хотя смысл танца состоял в обольщении, обольщение не было прямолинейным, репрезентация наготы оставалась символической. В подражание иллюстрации Бердслея «Женщина луны» с изображением Уайльда, на луне в декорации прорисовывался контур обнаженного женского силуэта. «Всмотритесь в небо, — пишет обозреватель в „Биржевых ведомостях“, — и вы различите здесь силуэт обнаженной женщины. Размеры луны антиреальны. Но этим хорошо символизировано настроение жуткой лунной ночи, наполняющей всех предчувствием крови и смерти»[247] (рис. 5).
(Рис. 5). Обри Бердслей. «Женщина луны» (Илл. к Саломее Оскара Уайльда).
Для Евреинова, который много писал о театре, царевна под покрывалом имела теоретический интерес[248]. Ревнитель наготы на сцене и символического значения обнаженного тела, Евреинов естественно тяготел к образу Саломеи, архетипичному для европейского декаданса образу женщины под покрывалом. В составленном им сборнике статей «Нагота на сцене» (1911) (об истории обнаженного тела в театре) он пишет о масках и сценических костюмах, покрывающих лицо и тело, как об источнике драматургической интриги[249]. Перефразируя Евреинова, мы могли бы сказать, что он считал слои одежды на теле источником повествования: если бы мужчина и женщина остались нагими в райском саду, рассказывать было бы не о чем; нарратив не появился бы.
Основная идея евреиновской интерпретации эдемического мифа заключается в том, что наложение покровов отмечает начало истории, в которой слои одежды обозначают блоки исходного повествования о человечестве, излагающего историю падшей природы человека. Обряд разоблачения рассказывает в обратном порядке о том, что случилось с невинностью в эдемском саду. Приложение евреиновской интерпретации этого обряда к Саломее наводит на мысль, что ее раздевание обладает многослойным смыслом, в рамках которого власть эроса сосуществует с властью истории.
Прошлое, особенно восстановление древности и тайна перворождения, волновало Евреинова и его современников. Хотя, насколько мне известно, он нигде не дает своей интерпретации разоблачения Саломеи, я предполагаю, что он рассматривал его в символистской перспективе, подобной той, в которой Кокто столь впечатляюще описывает Иду Рубинштейн. (Кокто описывает ее покрывала как слои природы, истории и слои культуры.) Метафоры раздевания и сбрасывания покровов и у Евреинова и у Кокто воплощают эпохальное освобождение плоти, тайну пола и всеохватывающую тайну перворождения.
ИсторияКакой взгляд на историю драматизировался в сбрасывании покровов Саломеи и Клеопатры? В морбидной атмосфере fin de siècle, воспринимаемом как конец времени, история была местом смерти, а не повестью о возрастании жизни. Типичное пространство декаданса — кладбище, и не как место, где разлагаются трупы, но как место, где не способные умереть (заложенные покойники) ожидают своего часа, подобно Саломее, превращающейся в Клеопатру в балете Фокина. В качестве альтернативы парадигме исторического прогресса декаданс предлагает восприятие прошлого как умышленную вневременность и отсутствие движения. Здесь обнаруживается одержимость мифологическим прошлым, стилизованным в виде сцены, часто помещенной в экзотическое пространство, в котором femme fatale разыгрывает свое кастрационное эротическое влечение. С анахроничным восприятием прошлого связан и сознательный культурный синкретизм, стирающий различия культурных характеристик. Декадентство вплетает в гобелен истории ряд древних и экзотических культур, пренебрегая историческими деталями так, как если бы они были взаимозаменяемы.
Одним из тропов истории в эпоху fin de siècle было женское тело. Вместо «мужской» парадигмы исторического прогресса, поколение конца века было одержимо видением прошлого как морбидно «женского» начала. Декаданс феминизировал историю, перерабатывая культурные артефакты прошлого, Сотворенные человеком, обратно в неодушевленную природу — в кладбищенский чернозем. Цель, однако, состояла не в восстановлении созидательных сил природы, а в поклонении фетишу женского трупа как предмета искусства. Отдавая предпочтение смерти, а не прокреации, декаденты отвергали биологическое продолжение рода, ассоциирующееся с женским телом. Отвергнув женщину как проявление жизни, они прославили ее как репрезентацию и изображение смерти. Эротизированный женский образ декаданса, созданный художником, символизирует жизнь и смерть одновременно. Художник обрекает кладбищу символическую фигуру женщины, являющуюся при луне ожидающим ее поклонникам. Здесь правит она, но только как объект представления художника, возвращающего ее к жизни.
Один из зачинателей русского символизма и автор многочисленных исторических романов, популярных в Европе в начале двадцатого века, Дмитрий Мережковский, воспринимал историю как палимпсест, где одни тексты написаны поверх других, но при этом все распознаваемы, как при двойной экспозиции в фотографии. Такое восприятие отражает одну из основных претензий его поколения к истории как хронологии прогресса. Оно объясняет анахроничную смежность наслоения исторических изображений, для которого «реальная» хронология оказывается не столь существенной. Палимпсест как метафора эпохи fin de siècle можно считать последствием археологического бума XIX в. В особенности его преклонения перед античностью и желания восстановить эстетические ценности прошлого.