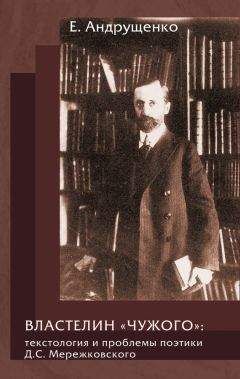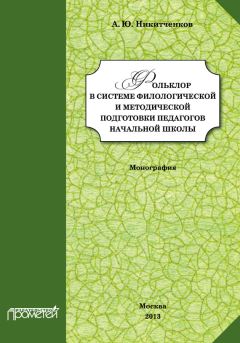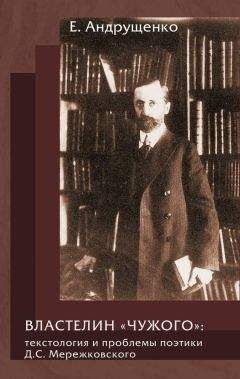«Религиозные судьбы Л. Толстого и Ницше поразительно противоположны и подобны: оба исходят из одного и того же взгляда на учение Христа, как на буддийский нигилизм, как на вечное нет без вечного да – умерщвление плоти без Воскресения, отрицание жизни без ее утверждения. Оба видят во Христе только первый лик Распятого без второго – Грядущего одесную Силы. Сознание Ницше прокляло, – сознание Л. Толстого благословило этот первый страдальческий Лик. Но бессознательная стихия обоих одинаково стремилась не к первому, а ко второму Лику Христа, еще темному, тайному. Исследуя художественное творчество Л. Толстого, мы видели (Вторая Часть, IV), что "только через божеское в зверском" (через святость "Божьей твари”, постигнутое дядей Ерошкою) коснулась его бессознательная стихия "божеского в человеческом" – через "Бога-зверя – Богочеловека". Его сознание отвергло лик зверя, как лик Антихриста. Л. Толстой понял только противоположность этих двух ликов и так же, как Ницше, не понял возможного разрешения противоречий в символическом соединении противоположностей. Бессознательная стихия Ницше тоже влеклась ко второму Лику, который являлся его сознанию, как лик языческого бога Диониса или Антихриста. Ницше называл себя "последним учеником философа Диониса ". Но так и не понял он, а может быть, только не хотел понять, нарочно закрывал глаза, чтобы не видеть слишком страшной и загадочной связи Диониса, бога трагического отчаяния, бога вина и крови, отдающего людям кровь свою, как вино, чтобы утолить их жажду, – связь этого бога с Тем, Кого "последний ученик Диониса" не потому ли так яростно отрицает, что все-таки слишком чувствует свою беззащитность перед Ним, – с Тем, Кто сказал: "Я есмь истинная лоза, а Отец Мой виноградарь. Кто жаждет, – иди ко мне и пей". Задумывался ли когда-нибудь Ницше о легенде первых веков христианства, предрекающей подобие лика Антихриста лику Христа, подобие, которым, будто бы, Антихрист, главным образом, и соблазнит людей? Если Ницше думал об этом, то это, конечно, была одна из тех, летящих в бездну мыслей, из которых родилось его сумасшествие. Не даром в вещем бреду уже начинавшегося безумия называл он себя не только последним учеником, не только жрецом и жертвою Диониса, но и самим "распятым Дионисом" – "der gekreuzigte Dionysos". Из этого-то противоречия сознания и бессознательной стихии вышли обе трагедии – и Л. Толстого, и Ницше, с тою разницею, что у первого слепая и ясновидящая бессознательная стихия шла против сознания, а у второго, наоборот – сознание шло против бессознательной стихии. Это-то противоречие и довело обоих до богохульства, которое оба они старались принять за религию, Ницше – тайный ученик, явный отступник; Л. Толстой – явный ученик, тайный отступник Христа» (325).
Четвертая глава, открывающая вторую часть «Религии», посвящена отношению Ф. Достоевского ко Христу. Она начинается известным рассуждением о романе «Анна Каренина» из «Дневника писателя» за 1877 г. Суд Ф. Достоевского важен Д. Мережковскому потому, что
...
«…никто в России так рано и верно не разгадал сущности толстовской религии; никто так ясно не предвидел грозившей тут русскому духу опасности; никто так стремительно и круто, может быть, даже слишком круто не повернул в сторону, противоположную Л. Толстому – никто, как Достоевский. И ежели есть у нас вообще противоядие не от христианской и не русской толстовской религии лжи, то оно именно в нем, в Достоевском» (328).
Взгляды Ф. Достоевского также отождествляются с мыслями его героев, например, Подростка, старца Зосимы, а взгляды Л. Толстого противопоставляются учению Сергия Радонежского, Нила Сорского и Франциска Ассизского, а также вере некрасовского Власа. Это соответствует обнаруженной выше особенности, когда имя или произведение используются как идея, и сопоставляются или противопоставляются именно эти идеи. Иллюстрацией одной из них – «преодоления истории», т. е. предвидения будущего сверхисторического христианства, – становится роман Ф. Достоевского «Идиот», проблематика которого соотносится с целой линией русской культуры – от «Пиковой дамы» и «Скупого рыцаря» до образа влюбленной в князя Мышкина Аглаи, читающей «Жил на свете рыцарь бедный.». Мышкин отождествляется с этим «безумцем», и далее – с рыцарями таинственной «Дамы» и «Дон-Кихотами, не прошлого, а будущего» (337), а также с теми, кто служит
...
«… "непостижимому уму виденью" "Великой Матери, упования рода человеческого – А.М.D.". В этом смысле рыцарем был и Данте, жених Беатриче, и Франциск Ассизский, любовник "Небесной Дамы Бедности", "трубадур Иисуса Христа". В этом же смысле и князь Мышкин, хотя и "бедный", все-таки подлинный рыцарь – в высшей степени народен, потому что в высшей степени благороден, уж, конечно, более благороден, чем такие разбогатевшие насчет своих рабов помещики-баре, как Левины, или Ростовы, Толстые, потомки петровского, петербургского "случайного" графа Петра Андреевича Толстого, получившего свой титул благодаря успехам в сыскных делах Тайной Канцелярии" (339).
Этот ассоциативный ряд расширяется путем введения имени Марии Магдалины и тех святых, которые несли свою миссию послушания:
...
«… и св. Екатерина Сиенская, и св. Тереза, и бесчисленные другие "служили Ему", следовали за Ним, умирали за Него, любили, "невесты неневестные", Жениха своего, до мученической крови, до кровавых язв на теле» (342),
а также противопоставления «Крейцеровой сонате» Л. Толстого.
Д. Мережковский приходит к выводу о том, что
...
«… в отношении к народной религии, к обрядам, таинствам, догматам, к народной и всемирной истории, к культуре, к сословию, к полу, к собственности, ко всему миру явлений – христианство Л. Толстого и христианство Достоевского так противоположны, как только могут быть противоположны два религиозные сознания: для Л. Толстого, как и для Фр. Ницше, как почти для всех людей прошлого и современного религиозного сознания, Христос есть отрицание и только отрицание, только умерщвление, только вечное нет ; для Достоевского Христос есть отрицание низшего и утверждение высшего мира явлений, вечное нет и вечное да – смерть и воскресение. Здесь даже больше, чем противоположность, здесь неразрешимое противоречие: сознательное христианство Л. Толстого отрицается и сознательным и бессознательным христианством Достоевского (которые не всегда совпадают, как мы увидим впоследствии) с такою силою, с какою только может не другая религия, а совершенное безбожие быть отрицаемо религией; сознательное "христианство" Л. Толстого – не другой свет, а все еще "тьма внешняя", в которой свет Христов будет сиять, но пока не сияет. Тут нельзя идти ни на какие уступки, ни на какие примирения – одно из двух: или Достоевский – христианин, и тогда Л. Толстой – не христианин, даже вообще не религиозный, конечно, только в своем сознании (старец Аким), а не в своей бессознательной стихии (дядя Ерошка, Платон Каратаев) не религиозный человек; или же наоборот: Л. Толстой – христианин и Достоевский – не христианин. Противоречия этих двух сознаний <…> нельзя уничтожить, не уничтожая самого учения Христа. Противоречие это – не только реальное, но и мистическое, ибо вытекает из противоположных отношений не только к миру явлений, но и к тому, что за миром явлений – к последней тайне мира» (344–345).
Глава пятая «Религии» посвящена исследованию того, что Д. Мережковский называет «последней борьбой» Христа и Антихриста или «последних глубин раздвоения Л. Толстого и Достоевского». Она является самой большой по объему во всей книге и имеет несколько тематических узлов, связанных с образами князя Мышкина, Ставрогина, Версилова, Ивана Карамазова, Кириллова, затем – с близостью идей Ф. Ницше и Ф. Достоевского. Сам Д. Мережковский сравнивает свою интерпретацию наследия писателя с нисхождением Данте за Вергилием «по суживающимся подземным кругам» (439).
Глава начинается стихотворением З. Гиппиус «Электричество». Возникающий в нем образ сплетения «да» и «нет» призван проиллюстрировать мысль Д. Мережковского о космическом раздвоении, лежащем в основе мироздания, и всеобщем стремлении к синтезу, который и «будет Свет», и становится в главе сквозным. По поводу него Л. Шестов писал:
...
«… стихотворение едва ли может быть названо удачным. Оно схематично отвлеченно – в сущности рифмованное переложение параграфа из элементарной физики. <…> И заглушив в себе природную эстетическую чуткость, г. Мережковский постоянно повторяет "Электричество", не соображая, что при многократном чтении даже неопытный читатель может догадаться, что "Электричество" – слабая вещь. По содержанию "Электричества" видно, каких "выводов" добивается г. Мережковский. Подобно всем идеалистам, и он убежден, что звание писателя обязывает его сделать знаменитое salto mortale – перескочить через всю жизнь к светлой идее» [120] .