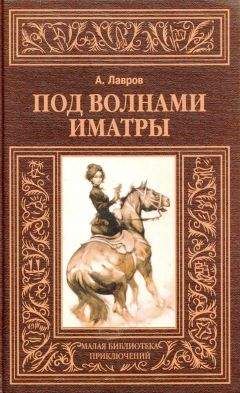Однако обратим внимание на следующее: как только мы пробуем узнать, что такое барокко, или пытаемся назвать его отличительные черты, мы начинаем следовать той логике, согласно которой и «барокко», и все иные слова-обозначения как вполне однотипны, однородны, одноосновны, так и вполне подлежат некоторым формально-логическим операциям: за каждым из таких слов тогда стоит своя сущность с ее признаками (субстанция с акциденциями), а все эти сущности, взятые вместе, складываются в единую картину истории литературы, разворачивающейся на своем едином основании. Из подобных представлений проистекают стремления во что бы то ни стало дать, например, определение романтизма, поэтому таких определений насчитывается уже много сотен, причем эти дефиниции нисколько не продвигают вперед наше знание романтизма. Перед «барокко» любители дефиниций обыкновенно просто сдаются. Поединки определений выливаются в поединки точек зрения, из которых каждая доказывает, что она лучше и, главное, научнее других, прежних[2]. Субъективизм этих точек зрения, сам по себе совершенно неизбежный и неустранимый из исследования, уводит от той логики смены смыслов, которая заложена в самом языке, на каком история литературы постигает самое себя, от той логики смыслов, которую мы представили в виде фразы из составляющих ее слов. Эта логика последовательности слов подсказывает нам, что мы, имея дело с такими словами, должны спрашивать не о том, что это (мы еще не знаем, что это, и даже не знаем, «что» ли это), но о месте смысла в последовательности смыслов, то есть в нашем случае о месте барокко в той последовательности, какая предопределяется нашей, составленной из слов-обозначений фразой.
Таким образом, что такое барокко, и даже «что» ли это, мы можем извлечь лишь из своего знания об этом, наше же знание всего этого предстает перед нами как наше незнание. Следуя такому знанию-незнанию, направляясь и руководствуясь им, наука о литературе накопила огромный запас знания, всего того, что, как Barock-Forschung, вращается вокруг «барокко», продолжающего оставаться нам неизвестным: как слово самой истории культуры о себе, которое способно руководить наукой в ее работе, а одновременно и требует своего эксплицирования, и упорно избегает — не допускает его.
Однако сказанное означает то, что мы не можем даже указать хронологические рамки барокко. И это несомненно так. Весьма понятно недоуменное риторическое восклицание литературоведа наших дней: «Когда начинается эпоха барокко и когда она кончается?» (Неймейстер, 1991, 851). Мы можем полагать — и это первое и самое разумное, — что барокко — это место в последовательности некоторых выстраивающихся в ряд смыслов, и, следуя традиции постижения барокко в науке, едва ли сильно ошибемся в отнесении барокко к определенной временной эпохе. Мы можем быть уверены, что время, когда существовало барокко, не совпадает точно с
XVII столетием, — это мы знаем из опыта и даже просто из того, что смысловое становление не имеет никакого шанса совпасть с внешними хронологическими рамками. Однако то, как установим мы это место в течении времен, будет зависеть лишь от того, как преломится в постижении каждого из нас смысл «барокко» и направляемая им традиция науки. Как уже сказано, среди всех слов-обозначений, входящих в построенную нами фразу, «барокко» принадлежит совершенно особая степень закрытости и, следовательно, неэкспли-цируемости его, и это напряжение между знанием и незнанием, между направляющим смыслом и невозможностью сколько-нибудь четко уловить его, по всей видимости, имеет касательство к самой сущности барокко, подобно тому, как этимологическая непрозрачность и тоже «закрытость» самого слова «барокко» налагает свою печать на его осмысление и его функционирование в науке. Исследователь барокко имеет дело с непроглядностью особого рода и с по-своему мучительной напряженностью, возникающей между внутренней очевидностью смысла и его же неуловимостью.
Как никакое иное из очерченных у нас явлений (тех, что входят во «фразу»), барокко способно растекаться под пристальным взглядом внимательного исследователя: всем историкам литературы должна быть памятна превосходная статья A.A. Морозова (А.А. Морозов, 1974), автор которой, прослеживая барочные соответствия в русской литературе, довел исследование барокко едва ли не до конца
XVIII века, сделав исключение лишь для А. П.Сумарокова и его школы. Это весьма ценный опыт пересмотра всей русской литературы XVII–XVIII веков. Под углом зрения западной научной традиции и направляющего ее смысла «барокко» обнажает те бездны относительности, какие постоянно подстерегают всякую историко-литературную и историко-культурную науку. Коль скоро мы в истории литературы (которая никогда не дается нам в руки как «сама» история литературы — см. выше) всегда имеем дело лишь с таким материалом, который заведомо уже оформлен и приведен в единство под знаком некоторого смысла, запечатленного в направляющем его слове и «запечатанном» в нем, то попытка перевода русского литературного классицизма в ведение барокко — это одновременно битва слов, и не более того, и донкихотское сражение с ветряными мельницами, лопасти которых проявляют при этом физическую силу сопротивления, и такой эксперимент глубокого переосмысления сути исторических явлений, который заведомо не может и не должен быть убедительным для кого бы то ни было, но который нельзя было не произвести. Невозможно опровергнуть истину точки зрения, однако и точка зрения, — при этом далеко не произвольная, но впитавшая в себя логику научной традиции, — не может претендовать на общее признание, общезначимость.
Кроме того, расширять границы барокко мы могли бы лишь при условии твердого знания того, что такое барокко — с его несомненными в таком случае признаками и т. д. Однако именно это барокко и скрывает от нас. Сам же А. А. Морозов, сделавший больше, чем кто-либо, чтобы ввести в нашу науку результаты западных исследований барокко, освободив их от известных прямолинейности и упрощений, какие были свойственны первой волне изучения барокко в 20-30-е годы XX века, осторожно воздерживается от чрезмерно эмпирической характеристики барокко, а именно, что барокко было «общим стилем эпохи» (Морозов, 1984, 116), что оно находилось в отношениях известной преемственности с Ренессансом и через его «голову» «обращалось к наследию готики и эллинизма» (там же), — вполне допустимые предположения. Зато Морозов справедливо протестует против одностороннего толкования барокко как стиля с определенными постоянными свойствами: «Ошибочно представлять барокко только как выспренний, аффектированный стиль» (там же). Он обращает внимание на то, что в немецком барокко взаимодействовали и совмещались различные традиции (это неоспоримо), что «эпоха барокко породила большое разнообразие жанровых форм и стилевых решений» (там же, 116, 117). Более того, эпоха барокко «характеризуется несовпадением и неравнозначностью признаков и их распределением на различных стилевых уровнях и в различных жанрах» (там же, 117). «Беспокойное и напряженное искусство барокко культивировало динамические и экспрессивные формы выражения» (там же, 116), между тем «существовало умеренное барокко, отличающееся задумчивостью и созерцательным отношением к природе в духовной лирике, элегии и др.» (там же, 117), причем тут остается невыясненным, в какой мере и это последнее, умеренное барокко можно характеризовать как «беспокойное и напряженное искусство» (об умеренности русского барокко см.: Панченко, 1973, 199–208; Софронова, 1983, 107). Морозов все же решается назвать и общие черты барокко — это «внешние и внутренние контрасты, полярность восприятия и отражения действительности, сочетание чувственного и спиритуалистического, возвышенного и низменного, простоты и изощренной сложности, отвлеченной символики и натурализма, экспансии во внешний мир (“барочный космизм”) и повышенного интереса к человеческой личности». Однако он должен тут же и оговориться — эти общие черты «неравно представлены, да и не всегда присутствуют на различных стилевых уровнях и в различных жанрах» (там же, 117). Кроме того, заметим, что это не эмпирически-конкретные черты, а общие модусы (контрастность, полярность), которые, возможно, подчиняют себе разнообразие эмпирических черт.
В целом у Морозова в его характеристике барокко не содержится ничего, что было бы очевидно неверно; напротив, его характеристика барокко останавливается перед ложной конкретностью, к которой нередко еще легко склонялись по неопытности более ранние исследователи барокко, останавливается перед указанием вполне конкретных и вполне непременных черт барокко, его стиля, и она настроена, собственно, лишь на некоторую общую динамику отношений взаимодействующих в искусстве барокко крайностей, таких, как чувственное и спиритуалистическое, возвышенное и низменное. Такая характеристика остерегается высказать о барокко что-либо лишнее, что потом нельзя будет согласовать с многообразием художественных фактов, и все равно должна сопровождаться разного рода оговорками. С другой стороны, такая осторожная характеристика содержит в себе для внимательного читателя больше того, чем по видимости заключено в ней. Так, «сочетание чувственного и спиритуалистического» предполагает, что эти два начала существуют по отдельности, обособленно, а потому и могут сочетаться, однако как именно они осмысляются, как связано осмысление их с осмыслением чувственного и духовного в прошлые века, как соединяется такое их осмысление с интересом к человеческой личности, — все это вопросы, ответы на которые, вероятно, и дали бы нам значительно более точное знание барокко как эпохи и как стиля. Все эти вопросы отсылают нас к общему, к тем основаниям, на которых, возможно, держится барокко — как целое, как целая культура. Возможно, что барокко соответствуют такие общие основания.