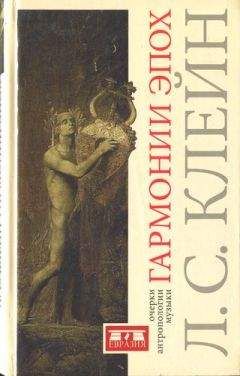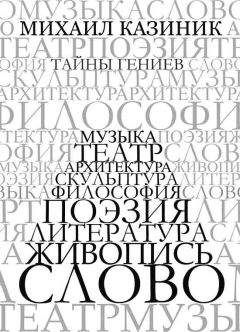Он вообще был не удовлетворен состоянием музыкальной теории конца века. В письме 6 опреля 1885 г. он придирчиво критиковал аналогичный учебник Н. А. Римского-Корсакова и так объяснял свои, как он выражался, «ехидство» и «злобность»:
«Мне кажется, что тут дает себя чувствовать моя ненависть к преподаванию гармонии; ненависть, происходящая от сознания, с одной стороны, несостоятельности существующих теорий и неумения изобрести новую, состоятельную, а, с другой стороны, от свойств моего музыкального темперамента, лишенного условий, требуемых для добросовестного преподавания. 10 лет я преподавал гармонию и 10 лет ненавидел свои классы, своих учеников, свой учебник и себя самого как преподавателя» (Чайковский 1957: XXI).
16. Седьмой экскурс в современность: блюз
Колоритная, красочная, полная напряжений, гармония романтиков звучала в европейской музыке почти весь XIX век. Симфонии Бетховена, оперы Гуно и Верди, балеты Чайковского и рапсодии Листа, Брамс и Шуберт, Глинка и Мусоргский, драматические мистерии Вагнера, «Свадебный марш» Мендельсона и «Фиалка Монмартра» Кальмана — всё это романтическая гармония, продолжающая и обогатившая функциональную. Она и построенные на ней произведения близки нам не только потому, что из всех произведений прошедших эпох эта ближе всех к нам по времени. Она близка нам еще и потому, что многие социальные, политические, культурные и идеологические конфигурации XIX века перешли в век XX и определяют его лицо. Социализм, вызревавший как идеал в XIX веке, стал реальностью в XX, но оказался драматичной и во многом трагической реальностью. Тоска по естественной жизни, проецируемой то в прошлые века, то в будущие; тревожное опасение, что всё это — несбыточные иллюзии; романтика борьбы и уход в себя; индивидуальный террор и апелляция к простонародью — всё это движет в XX веке помыслами интеллектуалов не меньше, чем в XIX, и, видимо, будет двигать в XXI. Эти века связаны воедино.
Более того, по впечатлению американского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна (1978: 54), эта музыка привлекает нас больше, чем современная академическая музыка!
«И вот, — говорил он в 1961 г., — мы пребываем в нашем определенном, точном, деятельном, гигиеническом столетии, в глубине души тоскуя по прошлому. Это правда. Почему мы так рвемся к Шуберту, Шуману и Вагнеру? Почему устремляемся в концертный зал при одном лишь упоминании имени Брамса? Почему ваш любимый композитор — это Чайковский? Потому что он и его романтические собратья дают вам то, к чему вы рветесь в глубине души, то, чего лишены наша блестящая современность и будущее…. В сердце своем мы по-прежнему романтики. Я думаю, что мир, однажды уязвленный страстью к свободе, никогда полностью не избавится от лихорадки, неумолимо преследующей нас в жажде свободы».
И уж, конечно, романтическая гармония находит обильное использование в массовой музыке современности.
Альтерация нашла неожиданное соответствие в джазе. Специфически джазовая гармония, по ступеням которой проходит мелодия блюза и джаза, строится на так называемой джазовой гамме. Гамма эта — обычная минорная гамма, в которой альтерированы (сдвинуты на полтона вниз) не только третья, но и пятая и седьмая ступени. Все три сдвинутые тона называются «блю» (грустными или голубыми). Но аккомпанемент выдерживается в обычном мажоре. Получается расхождение мелодии и аккомпанемента, что создает диссонансные созвучия.
Параллельные кварты, разрешенные вновь Бетховеном в начале XIX века, звучат в джазовом пении XX века. Это пение отрешилось от чистых трезвучий, от привычного для нашего уха размещения голосов на терции друг от друга. Голоса в джазовом хорике отстоят друг от друга на кварты и секунды, создавая диссонансные созвучия и эффект особой хриплости пения. Джазовые хорики звучат как размноженный голос Луиса Армстронга с его природной хрипотой (или, может быть, природная хрипота Луиса Армстронга удачно попала в тон хриплому тембру джазового хора, с его тягой к диссонансам).
Элла Фитцджералд — королева блюза
Мелодии песен Шуберта и романсов Чайковского стали народными песнями, и гармоническая пентатоника перекочевала в популярную музыку. Альтерация, ведущая к хроматике, звучит в песнях «Битлз» (вспомним «Мишель»). В гитарном роке квинтовые «аккорды» (на деле двузвучия), с выпавшей терцией (выпавшим средним звуком), оказываются ладово неопределенными (ни мажор, ни минор). В этом смысле они продолжают традицию неопределенных романтических аккордов, хотя причина их появления иная: при физическом разрушении звука «грязнящими» средствами только чистые консонанты способны удержать высотную распознаваемость, без которой нет ни мелодии, ни гармонии.
В XX веке имело место не только продолжение, развитие и освоение традиций XIX века за пределами серьезной музыки, но и испуг перед этими традициями и их отвержение, особенно в советском музыковедении. Такой тонкий и высокообразованный музыкальный критик, как Иван Иванович Соллертинский (1956: 249), анализируя сравнительно консервативного романтика Брамса, писал:
«Брамс с поразительной проницательностью и дальновидностью понимал, что от листо-вагнеровских эротических томлений и экстазов, от шопенгауэровского, буддийского или неокатолического пессимизма, от тристановских гармоний, от мистических озарений, мечтаний о сверхчеловеке — прямой путь ведет к мистицизму и декадентству, к распаду классической европейской художественной культуры».
Иоганнес Брамс — немецкий композитор-романтик, консервативно придерживавшийся традиционных романтических принципов в музыке
Лучшие советские критики не могли (или не смели) сообразить, что музыка века романтики, так же как последовавшая затем музыка XX века, были обусловлены социальной психологией своего времени и соответствовали ей.
Однако в опасениях перед увлечением некоторыми сторонами этой гармонии было и много справедливого. Скажем, силовое воздействие звука оркестра Берлиоза нашло системное продолжение и безграничное развитие в современном звучании рок-ансамблей, с их сверхмощными усилителями, от которых сами музыканты вынуждены затыкать уши надежными пробками. Эти децибелы звучания стали органической частью музыки, рассчитанной на «балдеж», на отключение от рассудка, на потрясающие эмоции, для музыки, приравненной к алкоголю и наркотикам. Как ни странно, и такое использование музыки имело провозвестников в XIX веке.
Худо ли, славно ли, но XIX век подошел к концу. Окончилось нормальное, гладкое развитие капитализма. Резко обострились противоречия, пали иллюзии, благополучную разумность истории дискредитировали конвульсии мировых войн. Отчаянные лидеры выдвинули социализм как альтернативный путь развития человечества и подвигли массу людей, даже целые страны на испытание этого пути.
В результате всего зашаталось представление о единой системе норм и законов, управляющих миром. Многим жизнь стала представляться беспорядочной, невообразимо сложной и нелогичной. Новую культуру А. Моль (1973: 43—46) предлагает называть «мозаичной» и изображает в виде войлочной путаницы связей, без правильной кристаллической решетки (а именно такую решетку напоминала функциональная гармония). Одних эти перемены пугают, других радуют. Так или иначе, дают повод оправдывать безграничную свободу личной инициативы, волевые решения.
В этой обстановке функциональная гармония, даже в романтическом варианте, стала казаться некоторым музыкантам чересчур искусственной, однообразной, пресной. Уж очень она связывает вдохновение композитора, подчиняет его шаблонным и скучным ожиданиям толпы. И всевозможные ухищрения, позволяющие подвести чуть ли не любой выверт под какие-нибудь подпараграфы разросшегося свода гармонических законов, не отменяют установку на систематичность, на согласованность. В этой гармонии всё еще слишком много благозвучия — теперь это кажется едва ли не обманчивой, даже фальшивой красивостью.
И вот уже вместо привычной музыки, выдержанной в тональностях, появляется нечто новое (Persichetti 1961). Отменяется фигурно программированная последовательность интервалов — неравных (то на тон, то на полтона) и неравноценных, составляющих семиступенную диатоническую гамму (мажорную или минорную). На ее место выдвигается равномерная гамма и провозглашается функциональное равенство ее ступеней.
В последней четверти XIX века и первой четверти XX импрессионисты Дебюсси и Равель первыми сдвинули привычные нормы. Это были поздние романтики, увлекшиеся импрессионизмом и символизмом в поэзии. Желая передать не конкретную реальность, а лишь свои впечатления (impressions), французские художники-импрессионисты создавали лишь смутные зыбкие образы, в которых набор цветных пятен и оттенков должен был передать субъективные ощущения художника. Подражая этому, Дебюсси стремился к тому, чтобы его музыка звучала тоже смутно — без четких мелодий и гармонически неопределенно. Функциональная гармония, даже с романтическими альтерациями была для него слишком жесткой.