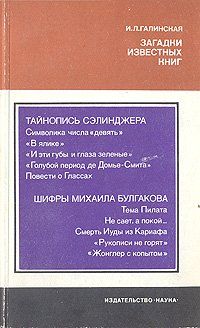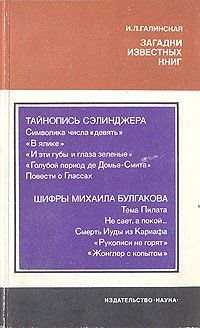Грянули. И славно грянули. Клетчатый, действительно, понимал свое дело. Допели первый куплет. Тут регент извинился, сказал: „Я на минутку!“ — и… исчез».[241]
С момента своего появления в романе и до последней главы, где он превращается в темно-фиолетового рыцаря, Коровьев-Фагот одет удивительно безвкусно, по-клоунски. На нем клетчатый кургузый пиджачок и клетчатые же брючки, на маленькой головке жокейский картузик, на носу треснувшее пенсне, «которое давно пора было бы выбросить на помойку». Только на балу у Сатаны он появляется во фраке с моноклем, но, «правда, тоже треснувшим».[242]
Драная безвкусная цирковая одежда, гаерский вид, шутовские манеры — вот, выходит, какое наказание было определено безымянному рыцарю за каламбур о свете и тьме! Причем «прошутить» (т. е. состоять в шутах) ему пришлось, как мы помним, «немного больше и дольше, нежели он предполагал».
Но сколько же? Если попытаться трактовать полученный результат буквально и если булгаковский персонаж — одновременно и рыцарь, и еретик, то следы его прототипов надо искать в XII–XIII вв. в Провансе, в эпоху распространения альбигойской ереси. Так что вынужденное шутовство — наказание безымянного рыцаря за неудачный каламбур — длилось ни много ни мало, а целых семь или восемь веков.
Здесь, однако, в интересах дальнейшего анализа романа следует коротко коснуться некоторых трагических, кровавых событий эпохи альбигойской ереси, происходивших в 1209–1229 гг., т. е. во времена крестовых походов, объявленных папой Иннокентием III против альбигойцев. Поводом к ним послужило убийство папского легата Петра де Кастельно. Оно было совершено одним из приближенных вождя еретиков графа Раймунда VI Тулузского. Состоявшее в основном из северно-французского рыцарства войско крестоносцев под водительством графа Симона де Монфора жесточайшим образом расправлялось с еретиками, тем более что католическое воинство рассчитывало поживиться за счет богатых городов Лангедока, а Монфору, в частности, были обещаны владения отлученного папой от церкви Раймунда VI.
В одном только городе Безье крестоносцами было убито не менее пятнадцати тысяч человек. Существует легенда, что, ворвавшись в Безье, католические рыцари спросили папского легата Арнольда Амальриха, кого из горожан следует убивать. «Убивайте всех! — сказал легат. — Господь узнает своих!»[243] Не менее свиреп был и Монфор, приказавший однажды не только ослепить сто тысяч еретиков, но и отрезать им носы.[244]
К концу 20-х годов XIII в. альбигойская трагедия свершилась окончательно. Богатейший цветущий край Прованс с его замечательной цивилизацией был разорен, а сами «альбигойцы, в сущности, исчезли с исторической арены».[245]
Однако возвратимся к «Мастеру и Маргарите», к образу Коровьева-Фагота. О том, что он не просто и не только шут, мы узнаем задолго до сцены, в которой Воланд и его спутники улетают с земли. Уже в конце первой части романа, почти незаметно для читателя, сообщается, что Коровьев-Фагот — рыцарь. К тому же — владеющий черной магией. Имеем в виду эпизод появления в квартире № 50 буфетчика театра Варьете Сокова.
«Горничная» Гелла спрашивает у прибывшего, что ему угодно.
«— Мне необходимо видеть гражданина артиста.
— Как? Так-таки его самого?
— Его, — ответил буфетчик печально.
— Спрошу, — сказала, видимо колеблясь, горничная и, приоткрыв дверь в кабинет покойного Берлиоза, доложила: — Рыцарь, тут явился маленький человек, который говорит, что ему нужен мессир.
— А пусть войдет, — раздался из кабинета разбитый голос Коровьева».[246]
И далее читатель узнает, что безымянный рыцарь еще и черный маг: он видит потаенное и предсказывает будущее.
«— У вас сколько имеется сбережений?
Вопрос был задан участливым тоном, но все-таки такой вопрос нельзя не признать неделикатным. Буфетчик замялся.
— Двести сорок девять тысяч рублей в пяти сберкассах, — отозвался из соседней комнаты треснувший голос, — и дома под полом двести золотых десяток.
Буфетчик как будто прикипел к своему табурету.
— Ну, конечно, это не сумма, — снисходительно сказал Воланд своему гостю, — хотя, впрочем, и она, собственно, вам не нужна. Вы когда умрете?
Тут уж буфетчик возмутился.
— Это никому не известно и никого не касается, — ответил он.
— Ну да, неизвестно, — послышался все тот же дрянной голос из кабинета, — подумаешь, бином Ньютона! Умрет он через девять месяцев, в феврале будущего года, от рака печени в клинике Первого МГУ, в четвертой палате.
Буфетчик стал желт лицом.
— Девять месяцев, — задумчиво считал Воланд. — Двести сорок девять тысяч… Это выходит круглым счетом двадцать семь тысяч в месяц? Маловато, но при скромной жизни хватит. Да еще эти десятки.
— Десятки реализовать не удастся, — ввязался все тот же голос, леденя сердце буфетчика, — по смерти Андрея Фокича дом немедленно сломают и десятки будут немедленно отправлены в Госбанк».[247]
Итак, Коровьев-Фагот, он же безымянный рыцарь, способен видеть скрытое и прорицать будущее. Кроме того (об этом сообщает уже сцена бала у Сатаны), он не менее сведущ, так сказать, и в делах загробных, ибо о каждом из гостей знает всю подноготную их земного и потустороннего существования.[248]
Подведем теперь итог всему, что нам известно об этом персонаже. Он шут и рыцарь, у него нет рыцарского имени, он еретик и сочинил каламбур о свете и тьме, за который был наказан. Кроме того, он черный маг. Наконец, нам ведомо, что рыцарь никогда не улыбается и что одежда у него темно-фиолетовая.
Для поиска прототипа (или нескольких прототипов) этого персонажа приведенных выше сведений не так уж мало.
Тема света и тьмы, например, часто обыгрывалась трубадурами Прованса. Гильем Фигейра (1215 — ок. 1250) проклинал в одной из своих сирвент церковный Рим именно за то, что папские слуги лукавыми речами похитили у мира свет. О том, что католические монахи погрузили землю в глубокую тьму, писал другой известный трубадур, Пейре Карденаль (ок. 1210 — конец XIII в.). Так возникла у нас догадка, которую в первом приближении можно сформулировать следующим образом: а не ведет ли рыцарь у Булгакова свое происхождение от рыцарей-трубадуров времен альбигойства? И безымянным остается потому, что неизвестно имя автора самого знаменитого эпического произведения той эпохи — героической поэмы «Песня об альбигойском крестовом походе»,[249] в которой также, как будет показано далее, фигурирует тема света и тьмы?
О том, что с «Песней об альбигойском крестовом походе» Булгаков был знаком, свидетельства имеются несомненные. Одно из них, как это ни парадоксально, писатель оставил в «Театральном романе», в числе героев которого — актер Независимого театра Петр Бомбардов. Фамилия для русского уха необычная: кроме «Театрального романа», у нас нигде ее больше не встретишь. А в предисловии к вышедшему в 1931 г. в Париже и имевшемуся с начала 30-х годов в Ленинской библиотеке первому тому академического издания «Песни об альбигойском крестовом походе» «Бомбардова» находим: сообщается, что почетный советник и коллекционер Пьер Бомбард был владельцем рукописи поэмы в XVIII в.[250]
Что известно, однако, о самом создателе поэмы? Существуют две версии: поэма либо целиком сочинена трубадуром, скрывшимся под псевдонимом Гильем из Туделы, либо им создана лишь первая часть поэмы, а остальные две с не меньшим искусством написаны анонимом — другим замечательным поэтом XIII в. Все сведения об авторе (или авторах) поэмы могут быть почерпнуты только из ее текста. Это альбигойский рыцарь-трубадур, участник битв с крестоносцами, отчего он и скрывает свое настоящее имя, опасаясь инквизиции. Он называет себя учеником волшебника Мерлина, геомантом, умеющим видеть потаенное и предсказывать будущее (и предсказавшим, в частности, трагедию Лангедока), а также некромантом, способным вызывать мертвецов и беседовать с ними.[251]
Теперь — о теме света и тьмы в «Песне об альбигойском крестовом походе». Она возникает уже в начале поэмы, где рассказывается о провансальском трубадуре Фолькете Марсельском, который перешел в католичество, стал монахом, аббатом, затем Тулузским епископом и папским легатом, прослывшим во времена крестовых походов против альбигойцев одним из самых жестоких инквизиторов. В поэме сообщается, что еще в ту пору, когда Фолькет был аббатом, свет потемнел в его монастыре.
А как же все-таки с тем злосчастным для булгаковского рыцаря каламбуром о свете и тьме, про который рассказал Маргарите Воланд? Полагаем, что его мы тоже нашли в «Песне об альбигойском крестовом походе» — в конце описания гибели при осаде Тулузы предводителя крестоносцев — кровавого графа Симона де Монфора. Последний в какой-то момент посчитал, что осажденный город вот-вот будет взят. «Еще один натиск, и Тулуза наша!» — воскликнул он и отдал приказ перестроить ряды штурмующих перед решительным приступом. Но как раз во время паузы, обусловленной этим перестроением, альбигойские воины вновь заняли оставленные было палисады и места у камнеметательных машин. И когда крестоносцы пошли на штурм, их встретил град камней и стрел. Находившийся в передних рядах у крепостной стены брат Монфора Ги был ранен стрелою в бок. Симон поспешил к нему, но не заметил, что оказался прямо под камнеметательной машиной. Один из камней и ударил его по голове с такой силой, что пробил шлем и раздробил череп.