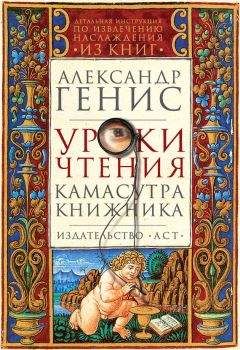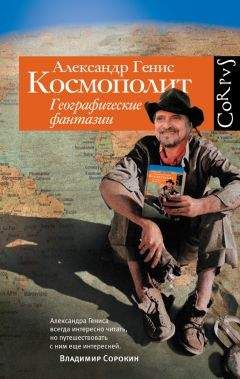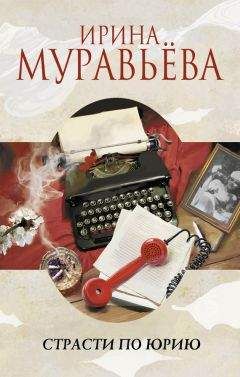Над этим и сегодня грех смеяться, потому что перевод сделал то, на что оригинал не претендовал. Плод невольного сотрудничества цензуры, автора и читателя – зарубежная литература на русском языке стала любимой и главной. По-моему, только в России встречались гениальные переводчики. Гиганты, обладавшие интуицией свободы и чутьем к резонансу, они, воссоздавая чужую прозу, ковали стиль языка и жизни.
Много лет спустя и много лет назад, переводчица Ремарка попала к нам на маскарад. Пока остальные бесились, она сидела в углу с моим отцом, и я, стесняясь сам сказать, чем ей обязан, слышал, как он ей рассказывал про соломинки для коктейлей.
* * *
Пути перевода потому были так извилисты, что шли за властью, указывая, словно карта сапера, где опасно. Перевод замещал то, что власть запрещала. По чужим книгам видно, чего нам не хватало у своих, даже – деревенщиков. В лучшем случае они писали о рыжиках, в худшем – “Тетюшинскую гомозу”, в маниакальных – про евреев. Не удивительно, что латиноамериканская проза заменила ту, что обещали, но не написали почвенники. Нового Гоголя мы нашли себе за границей. Звали его Маркесом.
Запад, конечно, и раньше направлял отечественную словесность, но часто у нее получалось лучше, чем у него. Любо посмотреть, что стало с Вальтером Скоттом, когда Пушкин отжал, осушил, “иронизировал” его рыхлый роман, ставший стремительной “Капитанской дочкой”. С тем же произволом Достоевский обошелся с Диккенсом. Не игнорируя, а утрируя сентиментальность, он, упразднив благодушный словесный гротеск, транспонировал социальный роман в теологический, где добру и злу достается поровну. Дальше – больше. Булгаков начинал с Уэллса, Платонов восхищался Хемингуэем, у Бабеля он даже слышен, Ильф и Петров запрещали читать его начинающим, что, конечно, не помогло. Без Хемингуэя не было бы той русской прозы, которая в конце концов смогла его если не преодолеть, то отодвинуть.
Даже свобода отменила Запад не сразу и по частям.
– Кому нужен, – пригорюнился в перестройку Пахомов, – автор с моей фамилией. Вот если бы меня звали Чейз!
Мальчишки тогда смотрели голливудские фильмы про Вьетнамскую войну, потому что снимать про свою не было денег. Вуди Аллен занял место комического еврея, пустовавшее со времен Паниковского. Мафия, говорят, копировала свой быт с фильма Тарантино, и я сам видел названную его именем дискотеку на безобидном Рижском взморье.
Сегодня, однако, лубки пишут люди с русскими фамилиями или без них вовсе. Но это уже не важно, потому что книги утратили жизнетворческую способность: им не в ком творить. Исчезла плодородная, как бульон для пенициллина, среда, которую Солженицын назвал “образованщина”. Хамский суффикс изуродовал корень, из которого выросли лучшие русские читатели, включая мою знакомую, двести раз перепечатавшую “Собачье сердце”. В сущности, это был деликатный цветок, выросший на экспериментальной, как всё в стране, грядке: средний класс, у которого не было ничего среднего – ни доходов, ни запросов. Компенсируя дефицит одних избытком других, эти чудаки верили чужому больше, чем своему.
Я знаю, я помню, я сам там был, и тоже думал, что переводная жизнь, как переводные картинки, открывает настоящую – цветную – сторону тусклого исподнего. Увы, теперь я понимаю, что это не так. Но я не разлюбил ошибку, которую делил сразу с двумя поколениями – своим и родительским. Правда, конечно, разрушает иллюзии, но ложь умеет еще и строить – и пирамиды, и Днепрогэс. Пользуясь этим, мы жили в книгах, написанных не про нас и не для нас.
С книгами обычно только так и бывает. В сущности, все они – чужие, пока в них не признают своих, но уж от таких трудно отделаться. Футбол превратился в беспросветную скуку, – прочитал я вчера в Интернете. – Туда ходят потусоваться, с парнями побазарить, в рожу кому-то дать. Как в салон Анны Шерер.
Чтобы бросить курить, я перешел на сигары.“Сигарета – проститутка, – уговаривал я себя, – а сигара – гейша”. Однако надежда на то, что редкость встреч сократит прием никотина, не оправдалась, потому что я подружился с антикоммунистом Рамоном. Он держал табачную лавочку, носил белые штиблеты и по дешевке продавал изумительные сигары из доминиканского табака, скрученные кубинскими эмигрантами. Я слышал (в опере), что Кармен это делала на обнаженном бедре, но в Нью-Йорке используют особую доску, острый нож и бесконечное терпение, ибо работа эта ручная и механическая сразу.
– Борясь со скукой, – объяснил мне Рамон, – на Кубе крутильщикам читали книги.
– Какие? – не удержался я.
– “Три мушкетера”, потом – “Анну Каренину”, затем – “Капитал”. Не удивительно, что Фидель оказался в Гаване, а я – в Америке.
Сигарное чтение изменило не только политику, но и эстетику: в Латинской Америке появились безмерно популярные романы для радио, ставшие со временем теленовеллами и сериалами. Во всех этих опусах главная строка – последняя: Продолжение следует. Она объединяет их с классическими романами большой Викторианской эры, которая началась до Виктории и кончилась уже после нее. Это случилось, когда мы, развращенные прогрессом, разучились любить толстые книги современников.
У меня они вызывают ужас. Особенно после того несчастного случая, когда я взял одну такую в самолет, рассчитывая скоротать с ней полет, занявший бо́льшую часть суток. Мы еще не покинули сушу, как я свирепо заскучал, устав переворачивать однообразные страницы. Автор был моложе меня, а казался старше – на четыре поколения. Он делал вид, что телеграф еще не изобретен и обо всем надо рассказывать, не скупясь на слова и обстоятельства. Утопленное в придаточных предложениях действие укачивало сходными поворотами, и над океаном я заснул, но не выбрался из кошмара, завязнув во сне без конца и юмора. Мне снилось, что я проснулся, вновь взялся за роман, опять заснул, опять проснулся – и так до аэропорта Кеннеди. С тех пор я на всякий случай беру в самолет неприкосновенный запас – томик хороших стихов, к которым тяготеют лучшие из тонких книжек.
С толстыми книгами сложнее. Их легко заподозрить в нарциссизме, самомнении, литературной неопрятности. К тому же автор толстой книги больше рискует. Вручая читателю кирпич своего труда, он претендует на несколько месяцев читательской жизни. Разделив ее на число толстых книг, мы придем к выводу, что новый труд обязан быть не хуже старых, раз он соревнуется с левиафанами Джойса и Музиля.
У тонких книг, честно говоря, претензий не меньше, но они – другие. Завоевав читателя не измором, а наскоком, они держат его в плену, пока он не выучит текст наизусть. Сколько раз вы перечитывали “Москва – Петушки”? То-то.
Отличие толстых книг от тонких прекрасно иллюстрирует эпизод из моего любимого ненаучно-фантастического романа Джека Финнея “Time and Again” (от беспомощности в русском переводе он называется “Меж двух времен”). Из-за этой книги я, кстати сказать, поселился в Нью-Йорке, соблазненный еще в России описаниями города и его главного героя – доходного дома “Дакота”. Тогда он славился купеческой красотой, а не тем, что в нем убили Джона Леннона. Другой герой книги, художник, волею сюжета переносится в xix век, где рисует на запотевшем окне полюбившуюся ему девушку. Однако она не может узнать себя в пунктирном контуре, потому что, не увидав Пикассо и Матисса, нельзя признать сходства между натурой и ее аббревиатурой.
Обратного пути к реализму тоже нет. Чтобы убедиться в этом, я заехал во французскую деревушку Барбизон, считавшуюся родиной реалистического пейзажа. Сейчас там последний очаг сопротивления – школа староверов, производящих буро-зеленые холсты в доимпрессионистской технике. И как бы я ни презирал новое искусство с его тухлыми акулами и людьми-собаками, прошлое – не выход. Художник, игнорирующий свой век, уподобляется конструктору безупречных карет, с которыми никто не знает, что делать. У писателей, впрочем, это не так заметно, потому что тонкие книги живут рядом с толстыми и вечными.
* * *
В старых толстых романах меня привлекает как раз то, что отпугивает в новых, – бесстрашие автора, доверившего читателю свой неподъемный труд. Обычно – в трех томах, чтобы увеличить циркуляцию книг в публичных библиотеках.
В романах той эры чувствовался пафос открытия. Свежей казалась уже сама проза, которая лишь недавно отвоевала себе право на приличную жизнь – в кабинете, гостиной и спальной. Чтобы не выглядеть вульгарными и дерзкими, эти книги никогда не обходились без иронии. Так они напоминали читателю, что роман не принимает себя совсем уж всерьез. Комическая нота неизбежна в самых сентиментальных местах у Диккенса, научившего этому Достоевского. Драму разворачивает сюжет, но на уровне предложения письмом заправляет степенное, чурающееся лаконизма, остроумие.