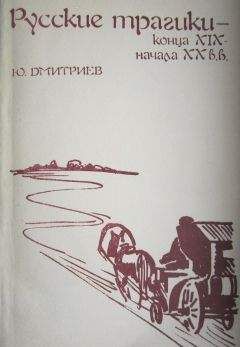В 1903 году Дальский исполнял в концерте монолог Сатина из пьесы Максима Горького «На дне». В 1904 году пьеса при участии Дальского пошла целиком.
По словам П. Н. Орленева, Дальский обращался с просьбой в цензуру, чтобы ему разрешили играть в провинции трагедию А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», но получил отказ.
Из новых работ артиста особенный успех имела роль Ротмистра в пьесе А. Стриндберга «Отец».
В образе Ротмистра драматург вывел не обычного офицера, он сделал его мыслителем. Свою дочь он хочет вырвать из-под влияния невежественной матери и бабушки-спиритки, хочет, чтобы она училась в большом городе. Но, противясь этому, жена убеждает Ротмистра, что это не его дочь и тем самым доводит мужа, до исступления. Он бросает в жену горящую лампу. В результате возникает вопрос: куда же отправить Ротмистра — в тюрьму или в психиатрическую лечебницу? Используя недобросовестных врачей, жена устраивает его в лечебницу, завладевает деньгами и одновременно подчиняет себе дочь.
Пьеса имела явно выраженный патологический характер, но Дальский трактовал своего героя как идейного бунтаря, противостоящего мещанскому миру. Значительную часть спектакля он играл спиной к публике, но это не мешало впечатлению; спина этого актера отличалась необыкновенной выразительностью.
Перед тем как бросить лампу, артист выдерживал пятиминутную паузу, случай в истории театра почти неслыханный. Тяжелую лампу он кидал так, что она пролетала возле самого уха артистки.
Последнее потрясение: при помощи обмана на Ротмистра надевали смирительную рубашку. Жестокой болью отзывался в сердцах зрителей его возглас: «Я так устал!» Дальский поднимался и замертво падал на пол.
Вот как об этой роли писал рецензент, присутствовавший на спектакле «Отец» в петербургском Народном доме: «Игра имела крупный художественный успех. Мимика, паузы, его безмолвная, но столь красноречивая игра в моменты сомнений — он ли отец, своей дочери? — его умопомешательство, — все было показано прекрасным артистом с убедительностью большого таланта»[204].
Неуравновешенность Дальского, помноженная на его положение гастролера, сказывалась и на его поведении в быту.
Все чаще в газетах появляются заметки, рассказывавшие о всякого рода скандалах, связанных с его именем. В «Биржевых ведомостях» сообщали, что в Харбине Дальский учинил дебош в читальном зале, после чего ему туда вход был закрыт. В Харькове в кафешантане «Буфф» ужинали Дальский и его администратор Э. Блок. Возник спор: кому платить за съеденное и выпитое. В споре Дальский схватил бутылку из-под шампанского и ударил ею Блока по голове. Полилась кровь. Явилась полиция, был составлен протокол.
Такой театральный подвижник, человек высоких нравственных правил, каким был П. П. Гайдебуров, писал: «Если у кого и сохранилось в памяти имя Дальского по газетам последнего десятилетия, то разве как прожектера, афериста, азартного игрока и анархиста, имеющего, впрочем, весьма отдаленное отношение к политике»[205].
Правда, многие сообщения о похождениях Дальского на поверку оборачивались сплетнями, но, как говорится, дыма без огня не бывает. Дальский всегда был нацелен на скандал. Правда при всяком настоящем отпоре он тут же сбавлял тон и с великолепно невинным видом, с чарующей наивностью обращал обиду в товарищескую шутку.
Дальский никогда не имел достаточно ясных политических убеждений. Но он всегда выступал против полицейского произвола и крайностей реакционного мракобесия. Однажды в Полтаве артист хотел показать «Кина» и пьесу Макса Нордау «Два мира». Последнюю пьесу полицейские власти играть запретили. Во время спектакля публика потребовала объяснений: почему пьеса Нордау изъята из репертуара? И тогда Дальский, в костюме Гамлета, вышел на авансцену и заявил: «Когда исчезнет произвол в России, мы будем ставить то, что нам угодно, а теперь…» Он развел руками и удалился при бурных аплодисментах публики. За такое выступление местный прокурорский надзор привлек Дальского к уголовной ответственности.
Как вспоминал Гайдебуров, в Керчи на одном из спектаклей у Дальского возник спор с полицейским приставом. Тастролер кричал: «Вон отсюда! […] Моя, сцена вне полицейского вмешательства»[206]. В результате составили протокол.
Постепенно Дальский начинал все больше интересоваться анархизмом как политическим течением. В связи с открытием Первой государственной Думы (1906) он говорил: «В сущности все эти вопросы — вздор: самодержавие или конституция, монархия или республика., Когда люди упразднят деньги — это будет реформа — все остальное игра в бирюльки».
Тогда же Дальский попросил Н. Н. Долгова достать для него книгу известного теоретика анархизма П. А. Кропоткина «Хлеб и воля» и, прочтя, со всем в ней сказанным согласился. Теперь он говорил, что главное — это всегда, сквозь все рамки, проявлять свою личность.
К 1913 году Дальский заметно постарел, в его игре появилась гастролерская развязность. Случалось, три акта на сцене ходил, пожилой, располневший и, в общем, скучный актер, но… вдруг в четвертом акте просыпался прежний Мамонт, и театр буквально содрогался от аплодисментов. «Молодость ушла, но голос, звучавший, как виолончель, верно служил ему»[207].
К постановке спектаклей Дальский стал относиться с еще большей небрежностью. Дело доходило до курьезов. Идет «Гамлет». Вынос гроба с телом Офелии. Музыки нет. «Играйте марш», — шипит в кулису помощник режиссера.
«Нет нот».
«Играйте что-нибудь».
И оркестр затягивает: «Эх, Настасья! Эх, Настасья! Отворяй-ка ворота».
Но Дальский не был бы Дальским, если бы он не стремился вырваться из того гастрольного омута, в какой он попал, если бы он не мечтал создать театр высокой идеи и настоящего искусства. Его навестил корреспондент газеты «Раннее утро», беседа зашла о современном состоянии театра. Дальский говорил, что Малый театр его не слишком увлекает. «Старики застыли в своих традициях, молодые, видимо, стеснены в своем движении вперед […]. Академичность Малого театра перешла в условность, она застыла в своих традициях.
— Ну, а наш Художественный театр вас удовлетворяет?
— Не совсем. Возьмем, к примеру, «Бориса Годунова». Пьеса прекрасно поставлена, толпа живет, детали отделаны. Согласен… Но центральных фигур нет. Нет Бориса, отсутствует Самозванец. Эти роли требуют актеров громадного таланта, особенно при той идеально выдержанной обстановке, в которой предстала перед зрителями пьеса в Москве.
Актеров-то и не было»[208].
Продолжая беседу, Дальский говорил, что «в Художественною театре все приятно глазу, все приковывает внимание, как волшебная сказка. Но вот посмотришь Ермолову, идешь домой, а там внутри все плачет от зависти к этой чародейке и смеется от радости, что есть Ермолова. Наша Мария Гавриловна (Савина. — Ю. Д.) большая художница, но что сокол Александринского театра в сравнении с орлом Дома Щепкина»[209].
Корреспондент спросил, не думает ли Дальский вернуться на императорскую сцену? И получил ответ, что дирекция не в состоянии ему платить столько, сколько актеру такого ранга полагается. (В таком ответе заключалось очень многое от сущности Дальского.) Но он сам затевает большое дело, объединяющее оперу и драму. Руководство драмой он примет на себя, что же касается оперы, то ею будет руководить Ф. И. Шаляпин.
Такого дела создать не удалось. Однако попытку возглавить, художественную часть театра Дальский предпринял. В 1912 году он договорился с антрепренером А. К. Рейнеке, режиссером и драматургом Е. П. Карповым о том, что вступит в организуемую ими труппу. Корреспонденту газеты Дальский при этом говорил: «Не выступаю в Петербурге потому, что считаю гастрольную систему неприемлемой при серьезной постановке. Актер в столице должен слиться воедино с театром ему близким, ему родным по художественному кредо. Такого театра, увы, не было. В нашем театре, возникающем по инициативе г. Рейнеке, актер будет дышать свободно»[210].
Во главе театра должен действовать совет. Дальский продолжал: «Полагаю, что художественно-репертуарный совет уничтожит в корне все интриги вокруг и около театра, тем самым создаст те условия, при которых настоящий талант сцены сможет проявить свое дарование […]. Если это удастся выполнить, я буду считать себя счастливым. Такой театр моя заветная мечта»[211].
Дальский полагал, что театр должен быть назван классическим как по выбору пьес, так и по их постановке. В репертуар предполагалось включить: Шекспира, Шиллера, Гёте, Кальдерона, Лопе де Вега, Мольера, Гюго, Ибсена, Бьернсона, Стриндберга, Пушкина, Гоголя, Островского, Л. Н. Толстого, А. К. Толстого, Мея. В этом театре актер будет избавлен от всего, что может умалить его человеческое достоинство и артистическое самолюбие.