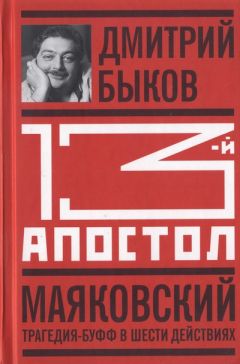— Какой из него выйдет художник?! По ногам видно, что в душе он портной.
<…> Говорили о революции 1905 года, о народном движении. Маяковский тогда был уверен, что непременно будет революция.
Один раз он мне сказал:
— Петр Иванович, хорошо вы портреты пишете, но бросьте портреты писать, начните что-нибудь другое. Ведь портрета никто лучше Веласкеса не сделает. Вы бы что-нибудь другое попробовали.
Я говорю, что не так культурен, никогда за границей не бывал. Вот бы вам, молодежи, свергнуть все эти гадости царские, и стерлись бы тогда все границы, а я бы с вами в Мадрид, в Прадо поехал.
— Будет, Петр Иванович! В недалеком будущем обязательно будет!
В студии стояло пианино, и ученики в перерывах часто пели хором. Мне рассказывали, что у Маяковского слуха совсем не было. Иногда устраивались «субботники»: собирались в студии, веселились, пели.
Из моих работ, сделанных при Маяковском, очень ему нравился портрет А. Н. Фролова (Фролов — один из моих учеников, очень талантливый).
Я — ученик Серова и часто говорил своим ученикам о Серове: о серовской линии, о его простоте, о его взглядах на искусство, показывал репродукции его работ, водил в Третьяковку. Маяковский Серова очень полюбил. Когда Серов умер (1911), Маяковский был на его похоронах и говорил речь.
Помню, после похорон говорю ему:
— Я вам очень благодарен, что вы так хорошо отнеслись к Серову.
А он в ответ:
— Подождите, Петр Иванович, вас мы еще не так похороним».
Может, это и от застенчивости, и от неловкости — он не очень-то привык к тому, чтобы его хвалили, да и не любил покровительства. Но вообще — надо было очень его любить, чтобы выносить этот поистине адский характер. Однажды Келин показывал свой этюд — такое в студии практиковалось: мастер спрашивал совета у подмастерьев. Все, как положено, хвалили. Маяковский молчал. Келин обратился к нему персонально.
— Да что ж,— сказал Маяковский, цедя слова.— Башня на первом плане давит… солнца мало, воздуха нет…
— А и правда,— сказал Келин.— Солнца мало, башня давит. А насчет воздуха бабка надвое сказала.
Почему он ему все прощал? Потому что видно было, что этот верзила абсолютно бескорыстно любит искусство и не умеет врать. И Келин был прямой плюс честный профессионал, так что отношения их ничем не омрачались. Через год, как и было обещано, Маяковский действительно поступил — и не в головной приготовительный класс, а сразу в фигурный: «Я натурщика рисовал, как вы учили — с пальца ноги одной линией».
Двенадцать женщин. Евгения и Вера
По меньшей мере дважды — в 1918 и 1927 годах — Маяковский упорно думал о романе.
Первый роман, согласно воспоминаниям Триоле, должен был называться «Две сестры» и повествовать об Эльзе и Лиле, о последовательной влюбленности героя в них, об отъезде одной и трудных отношениях с другой.
Не осуществилось. О неоконченных отношениях роман писать трудно.
В 1927—1928 годах он рассказывает сразу нескольким собеседницам о намерении написать роман «Двенадцать женщин» — или «Дюжина женщин», что звучит еще грубее. «Дюжинами считают»,— говорят в России о чем-нибудь дюжинном.
Почему именно двенадцать — вопрос занятный. Маяковский всю жизнь мечтал ответить Блоку. «Хорошо» — прямой ответ на «Двенадцать», и название поэме, первоначально называвшейся «Октябрь», дал Блок. Это его слова на вопрос Маяковского при встрече в ноябре 1917 года на Дворцовой, как он оценивает происходящее. «Хорошо» — предсмертное благословение революции, такой смысл имеют и это название, и эта поэма.
К «Двенадцати» Маяковский относился сдержанно. Ему представлялось, судя по некрологу «Умер Александр Блок», что в поэме слишком многое было от «сожженной библиотеки» — и слишком мало от революции. Радости не хватало.
Возможно также, что он ревновал. В «Двенадцати» есть реминисценция из Хлебникова («Уж я ножичком полосну-полосну»), а из Маяковского нет. Поэтохроника «Революция» словно вообще прошла мимо блоковского внимания. Эйхенбаум, правда, писал, что Блок в «Двенадцати» подражает Маяковскому, но подражания там нет и близко — Блок слушает музыку эпохи, а не музыку Маяковского.
Маяковский любил Блока ревнивой и мучительной любовью. По поводу и без повода читал «Ты помнишь, в нашей бухте сонной…». Когда в Одессе летом двадцать шестого Кирсанов не смог продолжить стихотворение, Маяковский взорвался: «Кирсанов! Читайте Блока! Блок — великий поэт, его не объедешь!» Тогда же рассказывал, как в 1916 году при личном знакомстве читал Блоку «Облако», как Иванов-Разумник и другие присутствующие ругали поэму, а Блок молчал, все глубже погружаясь в кресло, растворяясь в полумраке кабинета, и только на прощание, провожая Маяковского в прихожей, негромко сказал: «Никого не слушайте, вещь — замечательная».
Льву Никулину в двадцать втором сказал: «У меня из десяти стихотворений пять хороших, а у Блока два. Но таких, как эти два, мне не написать».
Абсолютно точная оценка — и самооценка.
Блок-то не ритор, попытки его риторики почти всегда неудачны: «Ямбы», например, или пролог «Возмездия», и даже «Вольные мысли» несколько проигрывают его болотным дольникам. Блок — едва ли не самый классический транслятор во всей русской литературе. Риторы эффектнее, и процент белого шума у них меньше. Но трансляторы убедительнее, ибо в их текстах читатель узнает не авторскую мысль, а свою.
Мне представляется, что «Двенадцать женщин» были второй попыткой ответить на «Двенадцать» Блока. Почему двенадцать? У Маяковского было гораздо больше триумфальных романов, даже если считать те, которые отразились в лирике. Но число это для него значимо. Двенадцать женщин — двенадцать апостолов нового Мессии.
Роман Маяковского мог быть только автобиографическим. Немыслимо представить, чтобы он взялся излагать, как «скулят на диване тети Мани да дяди Вани». У него нет строчек не о себе — разве что «Лучше сосок не было и нет», но и там вторая строчка все равно от первого лица: «Готов сосать до старости лет».
Идея рассказать о собственной эволюции как о серии любовных историй — вполне плодотворная.
Судьбы его женщин, надо сказать, складывались трагически. Как минимум три из них покончили с собой: первая большая романтическая любовь Мария Денисова выбросилась из окна в сороковом. Антонина Гумилина сделала то же в восемнадцатом. Лиля Брик отравилась в семьдесят восьмом (в тридцатом он ей приснился, и когда она во сне стала отговаривать его от самоубийства, ласково сказал: «Дурочка, ты сделаешь то же самое»).
Те, кто его любил, были с ним, как правило, несчастны, а без него — еще несчастнее. Он, как русская революция, мало кого сделал счастливее, но всех — значительнее, и все считали его главным, почти потусторонним событием своей жизни.
Но были и те, которые умудрялись быть счастливыми с ним, те, кого он берег — видимо, именно потому, что не претендовал на полную и безоговорочную капитуляцию, на собственность. Повезло тем, кто жил за границей: более или менее благополучную жизнь прожили Евгения Ланг, Элли Джонс, Татьяна Яковлева. Да и Эльза Триоле, пожалуй.
С русской революцией получилось примерно так же. Хорошо было ее пережить и от нее уехать, набравшись впечатлений на все последующее творчество.
Тактика его была неизменна с ранней юности: он зачитывал стихами, поражал рыцарственностью, дежурил у окна, окружал заботой, забрасывал подарками. Потом внезапно нападал. Если добивался успеха — некоторое время продолжал гореть ровным пламенем, потом исчезал, периодически возвращаясь. Если не добивался — начинал уважать, снова поражал рыцарственностью и даже до некоторой степени дистанцировался, пока противница не делала первого шага навстречу. Тогда соглашался. Потом постепенно охладевал, но никогда не рвал резко. Никогда не подчеркивал — в отличие, скажем, от Цветаевой,— что он поэт и что его желание должно быть законом.
После разрывов — всегда постепенных и мягких — почти все романы плавно переводил в дружбу, товарищество, совместную работу. Так было и с главным романом, превратившимся к 1925 году в крепкую дружбу с элементом ностальгической влюбленности, с оттенком литературного мифа.
Первая большая любовь, осуществившаяся, впрочем, с двухлетней отсрочкой,— роман с Евгенией Ланг.
Некоторые исследователи — Лариса Алексеева, скажем,— не доверяют мемуарам Ланг (которая и сама невысоко их оценивала с точки зрения литературной) и полагают, что там хватает авторского мифотворчества. Но в деталях Маяковский узнается безошибочно — мы узнаем его эпатаж на старте отношений, его упорство, его нежелание и неумение отступать — и внезапную готовность к разрыву. Ланг повезло — она набралась впечатлений и уцелела.