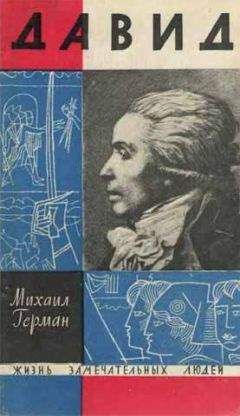колорит — глухой и сильный, могучий контраст литых плоских тональных пятен у Мане создает ощущение сенсационной простоты, увенчанной неопровержимым торжеством вкуса.
Странная красота Викторины Мёран — альтернатива приторной привлекательности, расхожим эстетическим критериям. В ней все индивидуально, и вместе с тем она — воплощение парижанки, вероятно, именно то, что называется типом времени. Полувеком раньше воплощением его служили гризетки, но времена иные: на смену милой, лишенной остроты и индивидуальности красотке приходит личность; мода на романтическую стилистику жизни и любви уступает место рафинированному цинизму. Грим смыт: новые эстетические и чувственные коды уже несомненны.
Их различает и реализует Мане.
«Завтрак на траве» (которым часто открываются популярные альбомы по истории импрессионизма) вряд ли включает в свою поэтику и художественный язык что-либо вполне импрессионистическое (если рассматривать это понятие с точки зрения привычной терминологии). Картина, не обладающая многими из хрестоматийных импрессионистических качеств, тем не менее имела могучий «деструктивный» эффект, обрушивший незыблемую систему унылой академической условности, показав реальность с невиданной простотой и ошеломляющей отвагой.
Эдуар Мане. Завтрак на траве. 1863
Беспрецедентный синтез: в «Завтраке на траве» соединились глубоко понятая классика с небывалой непосредственностью восприятия, возможной, казалось бы, лишь у художника, обладающего простотой и свободой примитива, никогда не видевшего старых мастеров, на которых воспитывалось восприятие XIX века.
Когда картины Эдуара Мане (до открытия Музея Орсе) находились еще частью в Лувре, а частью в Музее импрессионистов (Жё-де-Пом), впечатление от работ художника в двух разных экспозициях было не просто двойственным — оно было абсолютно разным.
То, что располагалось в Лувре, казалось дерзким экспериментом. Те же работы Мане (в их числе «Завтрак на траве» и «Олимпия»), что экспонировались в Жё-де-Пом, воспринимались как работы старых мастеров, решительно импрессионистам чуждые. Его картины могли — в зависимости от контекста — оказаться в оппозиции и к прошлому, и к современности. Хотя кто, как не он, эту современность создавал! И причиной всему, как чаще всего случается в искусстве, была полная свобода, с которой писал Мане, свобода, которая приносила ему отчуждение и от минувшего, и от сущего.
В картине «Завтрак на траве» сосуществуют разные уровни пластической условности, и сейчас вряд ли можно догадаться, в какой мере это отважный эксперимент, а в какой — недостаточная опытность художника. В конце концов, в начале творческого пути интуитивный эклектизм — это тоже движение! И сейчас картина (со всем накопленным историческим пиететом, восхищением и любопытством) вызывает ощущение отчасти мистификации, а отчасти и гениальной наивности.
В принципе, эта работа Мане более всего — простодушна.
Нагота женщин в обществе корректно одетых мужчин не смущает ни тех ни других. Однако нет здесь и непринужденности: люди на полотне как будто ощущают нарочитость ситуации, подобно гостям в гостиной, со смущенной развязностью демонстрирующим «живую картину».
Здесь тот же «эффект позирования», как и в работе «Лола из Валенсии»: в картине появляется пятый (невидимый) персонаж — сам художник (или зритель), к которому обращены лица по крайней мере двух ее героев: женщины на первом плане (Викторины Мёран) и сидящего рядом с ней мужчины (для которого позировал младший брат художника Гюстав, натурщиком для другой мужской фигуры стал брат Сюзанны Ленхоф — Фердинанд). Этот эффект присутствия, «взгляд из картины» (прием, который встречался, между прочим, у Энгра), это вовлечение зрителя в эмоциональное пространство произведения, возможно, усиливало раздражение публики, угадывавшей особую провокативность картины.
Быть может, впервые после Делакруа и в еще более резком варианте миру явилась картина, вся красота и достоинства которой заключены в ней самой, а не в привлекательности или занимательности персонажей, мотива или пейзажа (что, несомненно, есть и в «Сельском концерте» Джорджоне, и в «Суде Париса» Рафаэля, которыми вдохновлялся Мане). Эстетика Бодлера, еще в середине столетия утвердившего доминанту «вещества поэзии» над ее сюжетом, неуклонно и незаметно для самих художников становилась определяющей.
Ни лишенное привычной для живописи в мастерской кокетливой светотени и грациозной позы тело женщины со складками на талии и бесцеремонно повернутой навстречу зрителю пяткой; ни черные глухие сюртуки мужчин, ни даже их лица, скорее отрешенные, с некоторой растерянностью смотрящие в пространство; ни пейзаж, написанный широко и резко, со странной аппликативной плоскостностью, — ничто не было красивым в том смысле, к которому привыкла публика за многие десятки лет.
Даже искушенные зрители Салонов привыкли соотносить изображение не с реальностью, но с ее привычной интерпретацией салонными живописцами. Искусство оценивалось в русле самого себя, сравнивалось со знакомым, с картинками, названными красивыми еще в детстве (беллетристика потому и пользуется бóльшим успехом, нежели строгая литература, что не таит в себе ни сюжетных, ни художественных неожиданностей, уподобляясь модной, но вместе с тем привычной одежде).
Не на нравственность (как удобнее и проще было думать публике) покусился Мане, но, что куда более дерзко, — на привычный, установившийся вкус, в сущности, на «эстетический комфорт», на облегченное, натренированное на салонных картинках видение, на испытанный способ получать удовольствие. Рене Клер говорил, что трудно заставить лечить глаза человека, уверенного в том, что он отлично видит. Плебейский самоуверенный вкус, не способный признаться в собственной растерянности, бессильный оценить необычность живописи, инстинктивно подменил эту растерянность ощущением оскорбленной нравственности, а художественную отвагу назвал бесстыдством.
Давно банализированное сравнение «Завтрака на траве» с «Рождением Венеры» Кабанеля (1863, Париж, Музей Орсе), выставленной в официальном Салоне 1863 года, все же весьма красноречиво. Безупречное тело лежащей на волнах богини написано с какой-то свирепой и приторной банальностью. Оно впитало в себя вековые представления о засахаренном запретном плоде, упакованном в фольгу усредненного вкуса. Красота, лишенная индивидуальности, виртуозная ремесленная точность без намека на собственное видение. Абсолютная альтернатива новой отважной живописи — художник, укрывшийся за изысканным клише. Такая живопись не требовала от зрителя ничего, кроме любви к привычному.
Александр Кабанель. Рождение Венеры. 1863
Лишь отважный и непредвзятый взгляд мог увидеть красоту и редкое благородство живописи «Завтрака на траве». Не каждый в состоянии был оценить царственную точность пирамидального построения центральной группы, достойную Энгра филигранность линии, создавшей абрис обнаженного тела и послужившей своего рода ритмическим камертоном для светлых пятен лиц и рук, создающих классическую цельность пластической и цветовой структуры; увидеть