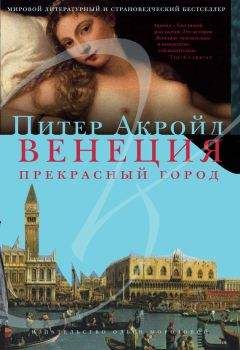В Венеции написана долгая история сотрудничества живописи и театра. Якопо Беллини был не только художником, но и организатором торжеств, и сценографом; в его время не было нужды в разделении этих профессий. Все это объединялось словом festaiuolo (организатор праздников). Искусство Веронезе и Тинторетто тоже имеет отношение к сцене; их видение мира было очень театрально. Работы Веронезе называли maestoso teatro (величественный театр). Так же можно было бы назвать творения великих архитекторов Венеции – Сансовино и Палладио, имевших сходное чувство пространства и композиции. Когда Сансовино в XVI веке перестраивал piazzetta, он интуитивно определил ее как декорацию с перспективой в одну точку; если смотреть со стороны Бачино, с водной глади перед ней, то здания по обе стороны уменьшаются к точке схода перспективы – изукрашенной башне с часами. Если же смотреть с другой стороны, от piazzetta на Бачино, то водный пейзаж обрамляют две огромные колонны. Здесь проводились главные постановки венецианской жизни. К примеру, это было место публичных казней. Ритуалы Венеции освещались огнями рампы.
Тинторетто имел обыкновение помещать маленькие фигурки из воска или глины в освещенные коробки. На этой залитой светом арене его фантазии происходила подготовка к работе на холсте. Но это был свет сценического прожектора. Тинторетто и Веронезе также разрабатывали и рисовали сценические костюмы. Для вдохновения им не требовалось ничего, кроме холста. Тьеполо тоже проявлял интерес к декоративному костюму; его привлекали преувеличенные театральные жесты и мимика. Персонажи на его картинах сгруппированы по образцу театрального хора; они серьезны, целеустремленны и эмоциональны. Они выглядят как актеры, фигуры commedia dell’arte, обуреваемые сильными чувствами.
Это могло случиться только в культуре, где не делается различий между природой и искусством, между реальным и искусственным. Или скорее эти различия не имеют значения. Важность определяется нарядным видом и блеском. Активность и экспрессия – скорее следствия, чем причина или самостоятельные сущности. Видимо, это неизбежное следствие городской жизни, где каждый должен сигнализировать о своей роли. Но особенно это относится к Венеции. Рихард Вагнер, знаток сценических мистерий, сразу признал достоверность города. Он отмечал, что в Венеции «потрясает все – как волшебная деталь декораций» и что эта нереальность создает «особое веселье», которое вольно или невольно действует на каждого приезжего. «Основная прелесть, – добавляет Вагнер, – состоит в том, что все отделено от меня так же, как если бы я был в настоящем театре».
Отделение – ключевое понятие. Фактически это оборотная сторона того, что Сэмюэл Тэйлор Кольридж назвал добровольной приостановкой неверия. Мы знаем, что это реальный город с реальными людьми, но действуем так, как если бы он был нереальным. Часто отмечают, что венецианцы отделяют себя от остального мира. Правительство Венеции к XVIII веку было слишком оторвано от повседневных дел мира, чтобы иметь какое-либо влияние. Можно сказать, что оно было заперто в собственном театре. В том столетии, когда могущество Венеции пришло в упадок, жизнь и веселье в городе били ключом как никогда. Славное прошлое и неясное будущее заслоняли карнавалами и праздниками.
И это был не единственный такой момент в городской истории. Во время осады Венеции австрийцами в начале XIX века, когда лишения, страдания и голод сделались уделом всех граждан, народ толпился на балконах и крышах, наблюдая обстрел города. Колокольни и башни церквей были заполнены венецианцами с подзорными трубами и телескопами, чтобы яснее видеть разрушения, наносимые городу.
В зарубежных спектаклях, к примеру, в театрах Лондона, Венецию часто можно увидеть на декорациях. Рождественская пантомима в «Друри Лэйн» в 1831 году включала диораму, называвшуюся «Венеция и прилегающие острова». Когда ставились пьесы Байрона «Марино Фальеро» и «Двое Фоскари», были сооружены декорации, которые считались самой важной частью представления. Когда Чарлз Кин в 1858 году играл Шейлока в «Венецианском купце», декорации хвалили за реализм. Но что за реальность они отображали, если не театральный образ, вошедший в общественное сознание? Именно в этом контексте следует воспринимать разочарование Эдварда Лира в зданиях Венеции, от которых он не получил «ни на йоту больше удовольствия, чем когда видел их на множестве театральных сцен, диорам, панорам и всяких прочих рам где бы то ни было». Он знал их все заранее.
В Венеции нет такого места, которое не было бы запечатлено на картине. Нет такой церкви, дома или канала, которые уже не стали бы натурой для кисти или карандаша художника. Даже фрукты на рынке выглядят так, словно их стащили с натюрморта. Все уже видено. Путешественник будто бродит по акварелям и картинам маслом, странствует по бумаге и холсту. Не беда и то, что Венеция стала традиционным местом действия для литературы и фильмов XX и XXI веков. Она – естественное место для всего сенсационного и мелодраматического. Сюжеты, полные интриг и тайн, часто помещают на calli и campi города; и вот Венеция – самое естественное место для проведения международного кинофестиваля. Венеция – не столько город, сколько представление о городе.
И кем же были сами венецианцы, если не актерами, не персонажами на фоне знаменитого задника? Генри Джеймс в «Письмах Асперна» (1888) описывает их как участников нескончаемого драматического представления. Вот гондольер и адвокат в характерных костюмах, вот домохозяйка и нищий. Их жизнь открыта окружающим. Они получают удовольствие от самовыражения. Они используют один и тот же язык жестов и поз. Они непрерывно говорят. Они изображают и передразнивают друг друга. Они наблюдают друг за другом на фоне домов и магазинчиков. Они живут в ограниченном и насыщенном пространстве. Это еще один пример внешней стороны венецианской жизни, где первенство тесно связано с видимостью. Отсюда возвышенное значение bauta (маски) в последний век республики.
Записи судебных процессов, ныне хранимые в обширных архивах Венеции, демонстрируют, насколько инстинктивная, невольная театральность вторгалась в общественную и домашнюю жизнь. Делались не только записи показаний, но и описывалось поведение говорящего. К примеру, описывалось, как некий бухгалтер вытирает лицо платком и корчится под давлением показаний свидетеля. В суде звучали драматические фразы: «Я никогда не хотела его. Я сказала „да“ голосом, но не сердцем»; «Я не разговаривал с ней и ее друзьями, потому что они не моего поля ягода». Есть сведения, что актеров, играющих на campi, нанимали учить свидетелей искусству речи и жестикуляции.
В городской жизни всегда можно разглядеть форму театра. Описывая Лондон в «Прелюдии» (1850), Уильям Вордсворт использует театральные метафоры; он пишет о «сменяющихся сценах пантомимы» и «драмах живых людей». Лондон был для него «великой сценой». Но Венеция обладала этими качествами in excelsis (в высшей степени). Маскарады во время карнавала составляли одно гигантское драматическое представление, центром которого был город. Зрители становились частью спектакля, и толпа кружилась внутри и вокруг этого живого театра. Мемуары идеального венецианца Джакомо Казановы показывают легкость, с которой жизнь в городе могла превращаться в осознанную самодостаточную драму. Любой, самый обычный венецианец, без маски и плаща, мог стать гибким лицедеем. Гете писал о человеке на пристани, который на венецианском диалекте рассказывал истории группе случайных прохожих: «В его манере не было ничего вызывающего, ничего смешного, она была скорее сдержанной; в то же время разнообразие и точность жестов демонстрировали ум и мастерство».
Венецианцы умели наслаждаться одеждой. Иногда казалось, что они одеты как актеры, играющие в чрезвычайно запутанной комедии положений. В 1610 году вышел альбом под названием «Костюмы венецианских мужчин и женщин». У них был острый глаз на моду и на яркие цвета. Они получали почти детское удовольствие от нарядов. Женщины из патрицианских семей Венеции особенно любили пышные платья. Собственно, к этому их обязывало положение. На праздник в честь французских послов в 1459 году Сенат приказал всем приглашенным дамам надеть яркую одежду и столько драгоценностей, сколько возможно. Требовалось создать видимость богатства и роскоши.
Джон Ивлин описывает наряд венецианских женщин как «очень эксцентричный, как будто всегда маскарадный». Файнс Моррисон оставил более подробное описание, отметив, что они «демонстрировали обнаженные шеи и груди и, более того, соски, приподнятые и увеличенные при помощи белья». Их шляпы украшало множество аксессуаров, включая бабочек, цветы и чучела птиц. Но это – венецианский талант все делать напоказ. Нижнее белье, судя по некоторым упоминаниям, меняли не слишком часто. Тем не менее все женщины носили вуали, молодые – белые, средних лет и пожилые – черные. Но больше всего бросалась в глаза обувь венецианок – zoccoli (сабо). Это были практически ходули, достигавшие сорока пяти сантиметров в высоту, балансировать на которых помогал сопровождающий. Модницы выглядели как великанши в пантомиме. О венецианках говорили, что они наполовину из плоти, а наполовину из дерева. Столь странную обувь объясняют грязью на улицах либо ограничениями, которые мужчины старались наложить на передвижение женщин. Кроме того, она позволяла демонстрировать gaudi (декоративные шлейфы). Однако вернее будет сказать, что это случай, когда мода вырвалась из-под контроля. Можно еще упомянуть между прочим, что венецианки имели обыкновение высветлять волосы до желтого цвета. Одним из ингредиентов такого состава была человеческая моча.