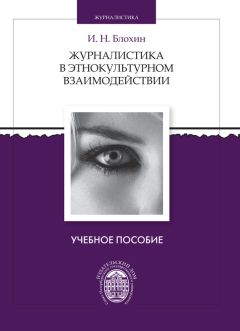По композиции портреты бывают трех типов: времяориентированные, сценоориентированные и литературные. В первом случае в качестве «красной нити» берется какой-то отрезок времени - либо один день (неделя, месяц) из жизни персонажа, либо вся его жизнь. Начало и конец портрета - это соответственно утро и вечер (понедельник и воскресенье, первый и последний дни месяца), рождение и смерть.
При сценоориентированной композиции действие развивается через смену типичных сцен из жизни персонажа. При этом исходная сцена задает определенное отношение к нему, а затем это отношение меняется, и после завершающей сцены персонаж представляется вовсе не таким, каким казался в начале текста.
При литературной композиции «красной нитью» служит метафора или сказка, которая затем накладывается на судьбу персонажа, становится лейтмотивом его жизни. Вот фрагмент портрета, написанного одной из студенток в качестве учебного задания:
«А ты знаешь анекдот про ворону?» - мы сидели у Машки на кухне, и она, умудряясь одновременно болтать со мной, печь пирожки и смотреть «Не родись красивой», рассказывала анекдоты. «В общем, собрались лебеди на юг лететь. Собрались и собрались, но тут к ним ворона подлетает и говорит: "Лебеди-лебеди, возьмите меня с собой, а?" Лебеди посмеялись, смотрят такие на ворону и говорят: "Ну ты, ворона, совсем из ума выжила? Посмотри на нас - какие мы белые, красивые, а ты куда?" Ворона начала канючить, и ее взяли с собой. Летят-летят лебеди, первая остановка. Сидят, ворону ждут. Тут видят - черная точка в небе, ба-бах, ворона приземлилась! Отдышалась, дальше полетели. Вторая остановка. Нет вороны! Через пять минут снова черная точка в небе, и ба-бах, ворона садится на землю. Отдышалась, дальше полетели. Долетели. Все уже приземлились, ждут-ждут ворону - нет ее. Тут видят - еле-еле тащится черная точка в небе. Ба-бах, ворона. Лебеди ей и говорят: "Ну что ты, ворона, мы же тебя предупреждали!" А она им: "Я.....смелая (никак отдышаться не может)...я...сильная...я...все смогу...но такая дура." Вот и я, Маринка, сильная и смелая! Хоть и дура!», - смеется Машка.
(Волобуева М. Московская девчонка в нейлоновой юбчонке: Учебная работа студентки 3-го курса Международного независимого эколого-политологического университета, апрель 2007 г.)
В заголовок портрета обычно выносят цитату персонажа, его особую характеристику либо просто обыгрывают его имя. Начинается портрет со сцены, реже - с особой характеристики персонажа или цитаты. Не рекомендуется начинать текст с оценки, так как читатели могут счесть ее натянутой и воспримут как попытку автора навязать им свое мнение.
Динамизм в портрете достигается за счет смены действий и цитат «вне действия». Последние служат для объяснения, комментирования и бэкграунда. При этом цитата должна располагаться до или после действия, но ни в коем случае не прерывать его. Завершаться портрет может цитатой, дополняющей или интерпретирующей то, что было сказано в начале, или сценой, показывающей завершение очередного круга из жизни персонажа («И снова...»).
Иногда портрет пишут от первого лица, когда журналист после беседы с персонажем оформляет текст в виде рассказа персонажа о себе. В остальном здесь действуют те же самые правила и закономерности. Вот пример такого портрета:
6.20. Зураб Соткилава написал мне на премьерной программке «Отелло»: «Саша, прошу тебя, береги свой голос!» Какое там «береги»: мое «браво!» пробивало стены театра насквозь, его было слышно на «Плешке». Я и сейчас, когда забываюсь, не щажу свои бедные, давным-давно порванные связки. Например, вчера. ...Если остановят гаишники, придется объясняться либо на пальцах, либо интимным шепотом.
12.00. Не думал, что меня так тряхнет. С 95-го года каждую субботу на старенькой «семерке» я открываю для себя подмосковные монастыри и храмы. Наверное, это гены: у меня в роду пять поколений священников. На этот раз был в Бутове. Там есть поле, где в тридцать седьмом расстреляли и зарыли 230 монахов, каноников, дьяконов. Возле него недавно построена деревянная церковь во имя святых новомучеников. Моросил дождь, земля была влажной, и у меня возникло ощущение, что я иду по слезам. Собственная жизнь перестала казаться такой уж тяжелой.
13.00. Дома сел и сидел, не ощущая ни себя, ни времени.
15.00. Оделся во все черное. Рубашка, свитер, джинсы. У меня много хорошего французского одеколона, но пользоваться им после Бутова не стал — не то состояние души.
15.30. Киевский рынок — самый дешевый рынок нашего города. Гвоздика — по двенадцать рублей за штуку. Взял полсотни. Меньше не имеет смысла. Их не будет видно. Цветы, летящие в финале на сцену, — это тоже элемент действия, и надо, чтобы оно получилось эффектным и красивым. Букет должен перелететь огромную оркестровую яму и опуститься точно у ног «моего» Коли Цискаридзе или «моей» Нади Грачевой, а не абы где. Никакая сирень не долетит — она слишком легкая; никакие гладиолусы не долетят — они сломаются по дороге. А у гвоздики есть и вес, и прочный стебель. Сегодня мне нужны белые гвоздики. Сегодня Коля танцует Альберта в «Жизели». И, например, красные гвоздики здесь не годятся. Нельзя Альберту красное. Это читается как кровь. А Дон Кихоту можно. Там красное — цвет любви.
Каждый цветок я вытащил из ведра сам. Проверил, чтобы ножка была потолще, чтобы не кривая, чтобы шапка была плотной. Девушки-хохлушки были недовольны. Я же не рассказываю, для чего беру. Я не хочу, это моя тайна.
18.15. В фойе — обычная суета. Подошли коллеги, попросили поддержать исполнительницу партии Жизели. Конечно, поддержу, Марианна — хорошая девочка. Сейчас в театр легче попасть, и поэтому клакеры не воюют, а сотрудничают. Бабушки рассказывали про клаку времен Павловой, Шаляпина, Собинова. Вот там доходило до драк. Не дай бог кто-то случайно чихнул. Это все! После спектакля выцарапывали глаза. Служили своим избранникам истово, как жрецы. И те понимали, берегли своих клакеров, были к ним очень внимательны.
Мне посчастливилось. Я застал последних из старой гвардии. Володя Мабута и Лиля Девятая Колонна (знаменитых колонн Большого театра, как известно, восемь) были великие клакеры. Они дышали театром. Они могли сорвать спектакль или поднять до невозможной высоты. Я видел, как преклонялись перед ними Лиепа, Лепешинская, Васильев. Они понимали, что от них зависят, и я испытывал гордость за то, что Лиля и Володя играют такую огромную роль.
Если они начинали хамить — это был провал. Есть много способов нахамить. Достаточно балерине за мгновение до фуэте сказать: «Маша, не надо, не делай этого.» — и она не сможет нормально станцевать. Некстати кашлянул, засмеялся, завел будильник. А как страшно артисту, когда он ждет этого весь спектакль! От такого ожидания ломались руки, ноги, голоса, карьеры. Никто никогда в эти разборки не лез. Во-первых, себе дороже. Во-вторых, все равно все заканчивалось рукопожатиями. Недели две-три максимум — и артист шел на мировую.
Но наказывать своих кумиров могли только они. Я как-то невпопад хлопнул — и Лиля гонялась за мной по всему Большому театру. Она была чемпионкой Европы по баскетболу. У нее были ладони, как ковши экскаватора: в каждой помещались одновременно три бутерброда. Она могла бы мою голову зашвырнуть на пятый ярус, как мячик. Но я, благодарение судьбе, мастер спорта по лыжам: я лучше нее бегал. Таких фигур, как Лиля и Володя, теперь нет. Но нет и того Большого театра.
18.45. В раздевалке партера попросил поставить в воду цветы. Они напитаются влагой, у них появится лишний вес. И они сохранятся свежими, а не как с могилы.
Над партером дата — 1856 год. Всякий раз, взглянув на нее, я ощущаю дрожь. Театр ни разу не реставрировался, до всего, что здесь есть, касались мои предки; и, возможно, именно на этом месте стояла в каком-нибудь 1900 году моя юная бабушка в новеньких сапожках и с кружевным зонтиком, которые теперь моя семейная реликвия. Когда после летних каникул я вхожу сюда первого сентября, на открытие сезона, я обязательно дотрагиваюсь до некоторых вещей: до обивки кресел, до дверей. Они для меня как икона.
18.50. Кстати, в партере никогда не сидели аристократы и богачи. Они сидели в бенуаре. Большой театр устроен так, что звук сначала достигает царской ложи, затем поднимается наверх, к последнему ярусу, и только потом оттуда опускается в партер. Его номер — последний. Прежний бомонд был в курсе этих нюансов.
19.00. Есть места с особой акустикой: упали ключи — и театр вздрогнул. Если в них начинать хлопать — весь зал будет слушать. Это на четвертом ярусе, в партере и чуть-чуть в крайних ложах. Я много лет хлопаю внизу в партере с правой стороны. Там идет очень сильный резонанс. У меня — особый хлопок. Люди рядом просто закрывают уши. Или, как сейчас, вибрируют и дергаются. Но театр — не кладбище. Здесь нужно хлопать. Особенно в балете. Зрители не понимают, что танцорам нужен отдых: восстановить дыхание после фуэте или после прыжков. Хлопки — это маленький, но спасительный отдых. Или когда случаются всякие казусы: куст упал вместе с Жизелью, у певца треснули штаны на мощной ноте, у балерины соскочили бретельки. Зал, естественно, начинает смеяться. Это нормально. Но надо смех перевести в сочувствие, заставить аплодировать, чтобы актер пришел в себя, чтобы почувствовал поддержку.