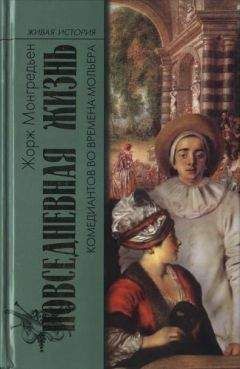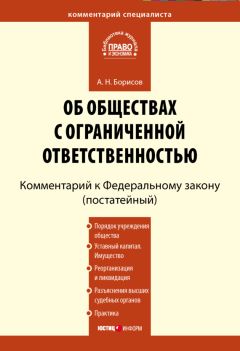Вот так автор «Мизантропа», тело которого было завернуто в покров обойщиков, был похоронен при свете факелов, почти что тайно, ночью, без пения, под крестом на кладбище Сен-Жозеф на улице Монмартр. Ни одного члена семьи или труппы не пригласили подписать свидетельство о смерти в приходской книге. В последующие дни на бедного покойного Мольера обрушился град сатирических эпиграмм, называвших его безбожником и нечестивцем. Впрочем, следует добавить, что грозу церкви на себя навлек не столько актер, сколько автор «Тартюфа» и «Дон Жуана»…
Это знаменитое происшествие явилось предвестником глубоких перемен в позиции церкви. Время ослепительных празднеств со спектаклями и балетами, которые Людовик XIV устраивал в честь мадемуазель де Лавальер и госпожи де Монтеспан,{8} прошло. С 1680 года монарх подпал под влияние суровой госпожи де Ментенон, считавшей, что на нее возложена миссия вернуть короля на путь истинный. Людовик XIV практически не посещал театральных представлений, даже при дворе. Втянувшись в спор о театре, о котором мы еще поговорим, духовенство намеревалось решительно с ним бороться, а для этого вновь ввело в силу строгие правила ритуалов, направленные против комедиантов, период религиозной терпимости закончился.
Кюре церкви Сен-Сюльпис проповедовал с кафедры против театра и актеров и получил такую отповедь от Брекура:
Суровый пастырь нас клеймит с амвона.
Мудрец изрек: есть время для молитв,
Для смеха и для слез, для мира и для битв.
Не слепо ведь орудие закона!
Не тратьте слов: есть вещи неизменны.
Театр всегда был местом для гульбы,
А церковь — для поста, поклонов и мольбы.
Там смех звучит, здесь мысли сокровенны.
Но каждый Божий день мы зрим у алтаря
Жеманство, шутовство, потраченные зря.
Уж не довольно ль вам такого срама?
Спаситель, в мир сойдя, чтоб побороть порок,
На ярмарке фиглярства не пресек,
Изгнав лишь осквернителей из храма.
Именно с этого времени приходские кюре получили приказ строго придерживаться правил и требовать у умирающих комедиантов письменного отречения от своего ремесла, прежде чем их соборовать.
Так, мадемуазель Дюпен из театра Генего была крестной на крещении в церкви Сен-Жак-дю-О-Па, однако из осторожности скрыла от кюре, что она актриса. Предупрежденный, вероятно, «доброй душой», священник прислал ей суровое письмо:
«Не могу выразить сильной боли, которую я ощущаю перед Богом и в глубине своей души, от сюрприза, преподнесенного мне позавчера, когда вы, мадемуазель, скрыли от меня вашу профессию, явившись в наш приход представить дитя. Признаюсь, что ваш облик и наряд говорил кое о чем, однако боязнь ложных подозрений и ваша видимая участливость ко всему происходящему помешали мне с вами поговорить. Я не захотел обмануться внешностью, которую распущенность нашего века сделала почти одинаковой во всех женщинах. Церковь, отлучающая от себя тех, кто, как вы, поднимаются на сцену и представляют там странных персонажей, и лишающая их, как недостойных, причащения к телу Христову и ко всем благам его истинных детей, положила нам за правило не принимать в крестные людей вашего сословия… Я просто хочу, чтобы сей случай заставил вас задуматься о вас самой, и желаю, чтобы Богу было угодно раскрыть вам глаза, мадемуазель, и увидеть в осуждении церковью вашего ремесла и ваших собратьев образ того суда, который Господь свершит неотвратимо, если вы не одумаетесь и не обратитесь».
Ответ актрисы не был лишен остроумия:
«Поскольку вас заставили говорить интересы Бога, не взыщите, сударь, что он велел мне отвечать, и я говорю вам, что, любя вас, досадую, вынужденная думать, что вы служите ему лишь вполсилы; если бы вы отдавались служению целиком, то не сочли бы за труд явиться прямо ко мне, чтобы убедить меня в этом, и, хотя вы считаете, что я привержена дьяволу, вам нечего опасаться: ниспосланная вам благодать послужила бы вам епитрахилью и святой водой, чтобы его изгнать. Ибо обращаясь ко мне письменно, вы не служите ни Богу, ни вашей досаде; вы не служите Богу, потому что это письмо не слишком убедительно, чтобы обратить меня в истинную веру, а вашей досаде — потому что ребенок все-таки был крещен. До сих пор я считала, что в Божью церковь принимают лишь людей, коих умеренность заставляет зрело взвешивать все, что они ни делают, но для пастыря, пекущегося о столь обширной пастве, вы чересчур торопитесь… До сих пор я достаточно заблуждалась, чтобы не видеть заблуждений своей профессии. Возможно, вы рождены, чтобы заставить меня их признать, и сие христианское усердие не должно изменить себе при встрече». И подпись: «Та, кто, несмотря на ваше недоброе мнение, отказывается от дьявола, но не от положения вашей смиренной слуги, Луиза Жакоб дю Пен».
В 1685 году Брекур, один из давних товарищей Мольера, был при смерти. Кюре церкви Сен-Сюльпис Клод Боттю де ла Бармондьер потребовал, чтобы тот подписал в присутствии трех церковников следующее заявление:
«В присутствии господина Клода Боттю де ла Бармондьер, священника и доктора богословия из Сорбонны, кюре церкви и прихода Сен-Сюльпис в Париже, и нижеперечисленных свидетелей, Гильом Маркуро де Брекур признал, что, занимаясь прежде ремеслом комедианта, полностью от него отказывается и обещает искренне и от всего сердца более им не заниматься и не выходить на сцену, если даже вновь будет в полном здравии».
Брекур подписал и почил в лоне католической апостольской римской церкви, прожив довольно бурную жизнь, которая не могла бы служить к назиданию потомкам.
Два года спустя скоропостижно скончался Розимон; кюре церкви Сен-Сюльпис чинил всяческие препятствия его похоронам и дал согласие на погребение «лишь потому, что один священник уверил его, что в своей исповеди тот пообещал оставить театр. Похороны прошли ночью, без креста, святой воды, светильника, савана, были только два священника в шляпах и длинных рясах». А ведь Розимон в свое время издал «Жития святых на каждый день». В то же время епископ Се отказал в церковном погребении «шуту», умершему в Алансоне 6 августа 1680 года. Еще через десять лет у знаменитой Шаммеле с огромным трудом вырвали ритуальное заявление: она умерла «в благостном настроении, но будучи сильно огорчена тем, что умирает», — язвительно сказал Расин, который, однако, некогда был ее любовником. И в следующем веке знаменитая Адриенна Лекуврер была похоронена ночью, без гроба: полицейские закопали ее в яму на берегу Сены.
А ведь многие актеры (например, Мадлена Бежар и другие) включали в свое завещание, помимо пожертвований на бедных, благочестивые дары и служение месс за упокой своей души.
Кстати, труппы комедиантов, не говоря уже об уплате налога в пользу бедных, регулярно делали пожертвования разным парижским монастырям, о чем свидетельствует журнал Лагранжа. Были даже обнаружены прошения некоторых монастырей, например, кордельеров и августинцев, расположенных поблизости от здания «Комеди Франсез», со смиренной просьбой к комедиантам «включить их в число бедных монахов, коим вы оказываете благотворительность», обещая взамен, что «они будут вдвое больше молиться Господу за процветание вашего дорогого товарищества».
В ту же эпоху во время громкого процесса между отцом Каффаро, защитником театра, и Боссюэ последний в своих «Максимах и размышлениях о комедии» обрушился на самих актеров. Вспомнив, возможно, о памфлете кюре Рулье, который тридцатью годами раньше уже обрек на муки ада автора «Тартюфа», «этого демона, облеченного плотью и облаченного мужчиной», Боссюэ нападал на самого Мольера, предав его страшной и знаменитой анафеме: «Горе вам, смеющимся ныне, ибо восплачете!»
В своем письме к отцу Каффаро «орел из Мо» произносит громкий приговор актрисам:
«Вы говорите, отец мой, что ни разу не могли разглядеть посредством исповеди ни мнимого лукавства комедии, ни преступлений, источником которых ее называют. Вы явно не подумали о преступлениях актрис, певиц и о прегрешениях их любовников. Разве приносить христианок в жертву публичной невоздержанности, причем более опасным способом, чем в местах, которые не смеют называть по имени, — ничего не значит? Какая мать, я даже не говорю христианка, но просто честная женщина, не предпочтет скорее увидать дочь свою в могиле, чем на театре? Разве для этого бесчестия я нежно пестовала ее и воспитывала с такой заботой? Разве я день и ночь держала ее под своим крылом, чтобы отдать на потребу толпе? Кто не видит в этих несчастных христианках, если они еще остаются ими, занимаясь ремеслом, столь противным обету их крещения, кто, говорю я, не видит в них рабынь, выставленных на позор, в которых угасла стыдливость из-за стольких взглядов, кои они привлекают и бросают сами, — они, кому сам их пол предназначил в удел скромность, и чья естественная слабость требует надежного укрытия в хорошо поставленном доме?»