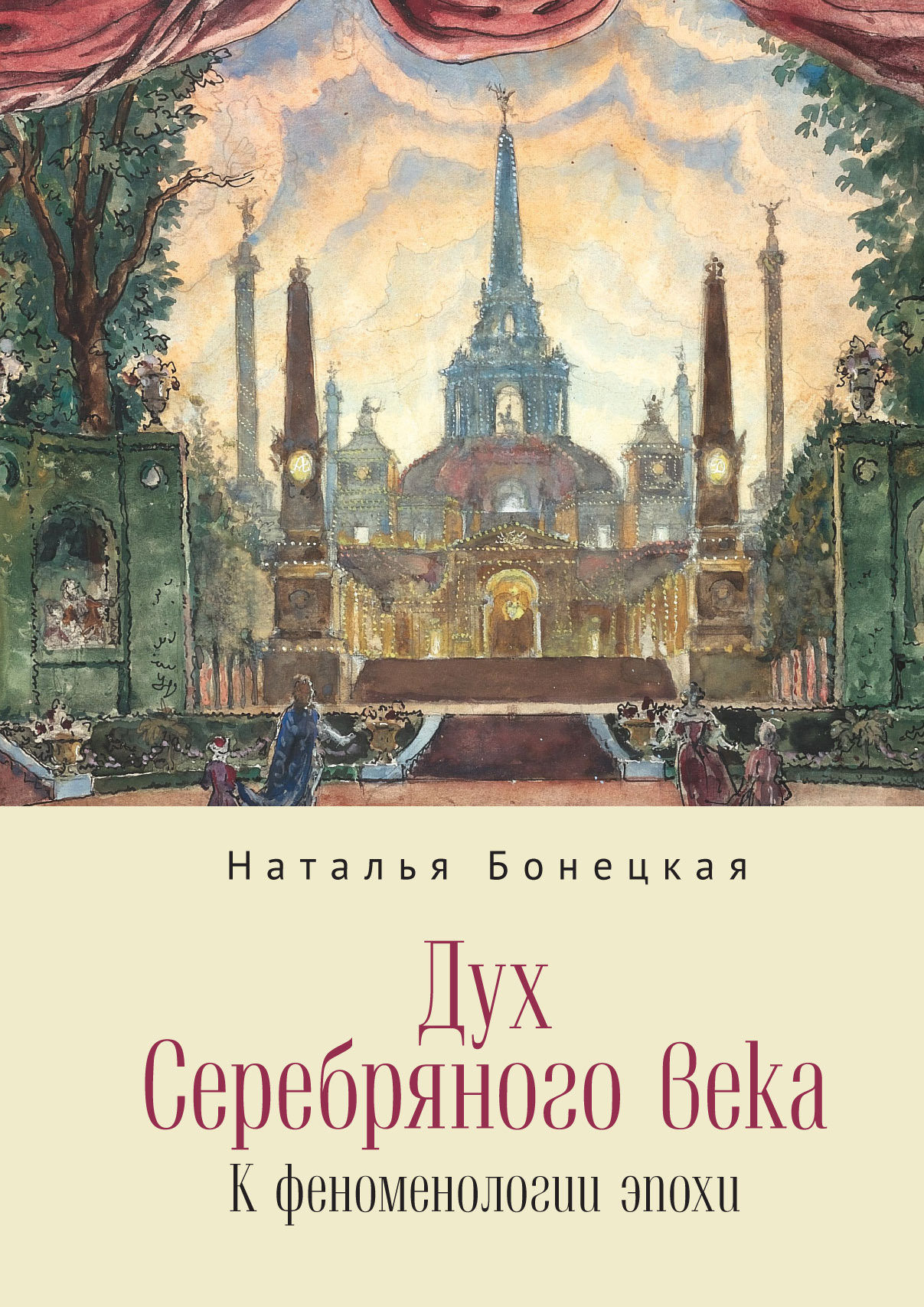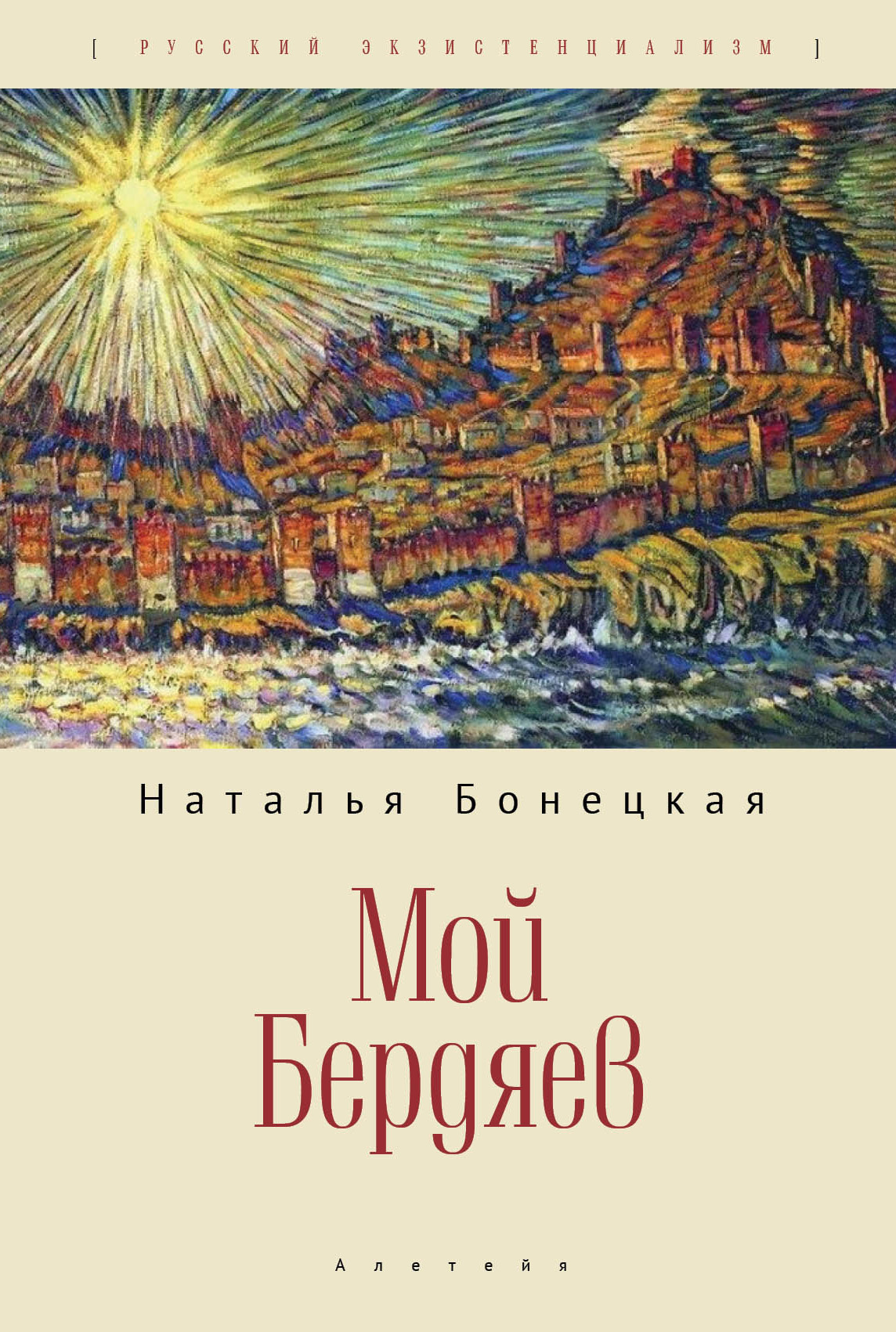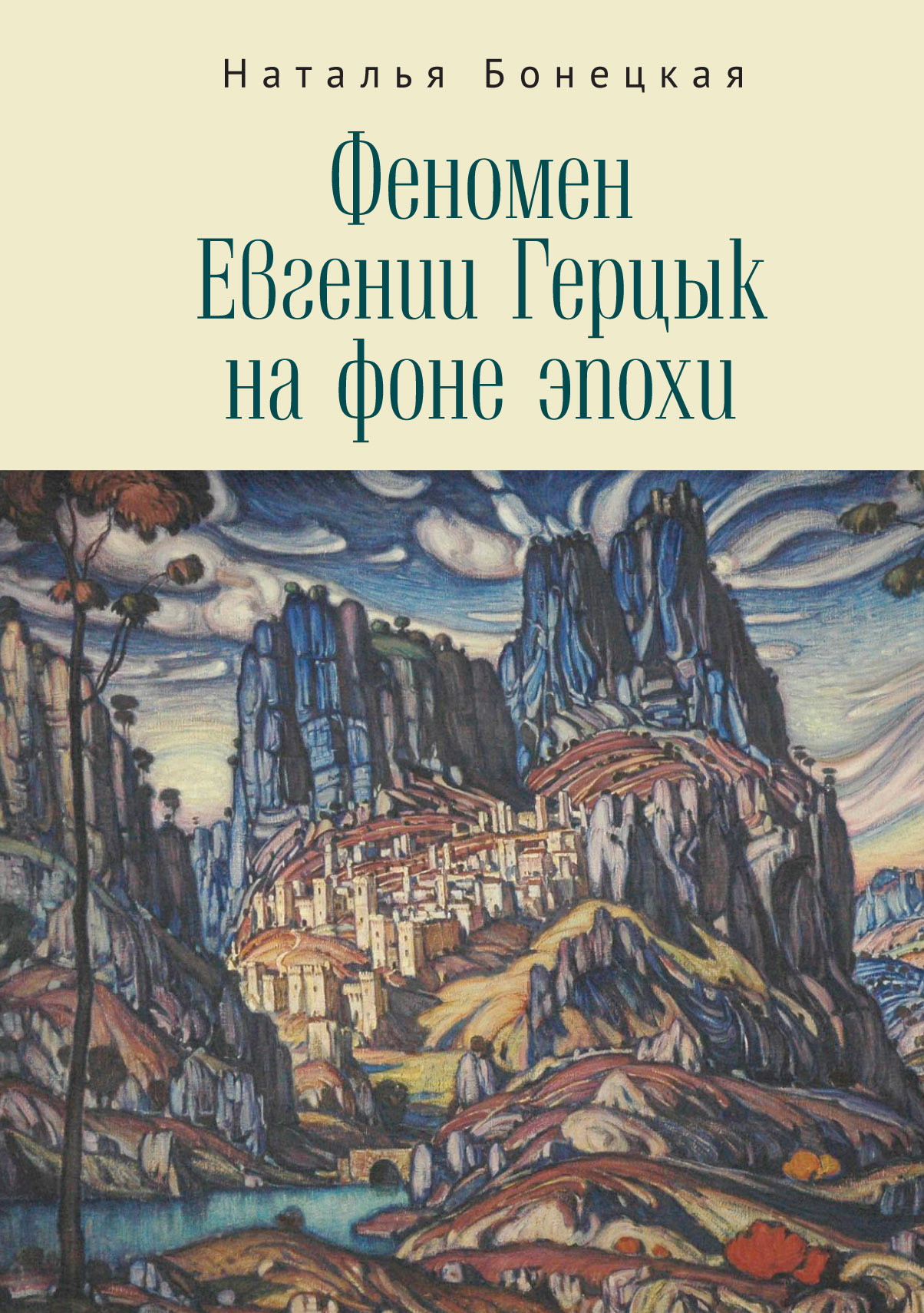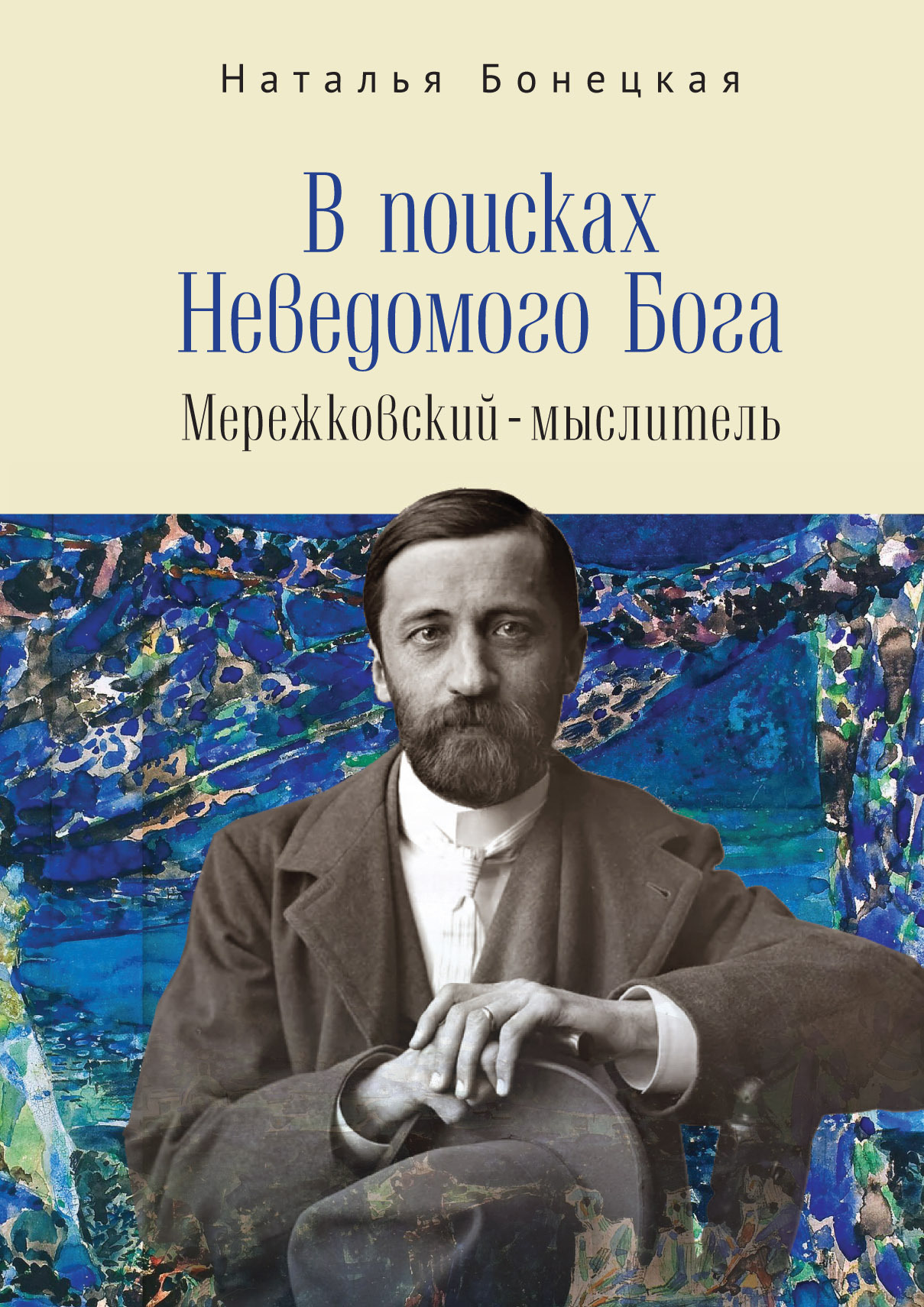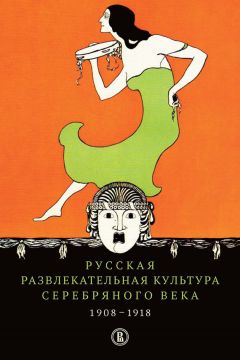феномену. Мережковский принял шестовский образ Ницше и представил его в несколько ином ракурсе. Шестов задал тон всей последующей русской «сравнительной» герменевтике, и потому надо достаточно пристально вглядеться в созданную им икону.
И действительно, в трактате Шестова содержится самый недвусмысленный апофеоз Ницше. «Я знаю, что слово «„святой” нельзя употреблять неразборчиво, всуе, – заявляет Шестов. – <…> Но в отношении к Нитше я не могу подобрать другого слова. На этом писателе – мученический венец» [15]. Свой эпатирующий тезис (ведь понятия «святость», «мученичество» для Ницше в числе одиознейших) Шестов обосновывает так. Ницше был в высшей степени нравственным человеком – фактически христианским монахом («служил «„добру”», «отказывался от действительной жизни» – «всех природных инстинктов и запросов», «не мог и ребенка обидеть, был целомудрен, как молодая девушка» и пр.), – но вот, в расцвете лет был разбит неизлечимой мучительной болезнью. Вместо награды «добро сыграло над ним коварную шутку» – и совесть Ницше восстала на «добро». Философию Ницше Шестов выводит из праведного, «святого» бунта «немецкого профессора» против постигшей его несправедливости: остаток жизни Ницше посвятил пересмотру традиционных представлений о добре и зле. Что же касается веры в Бога (которая могла бы примирить Ницше с его участью), то хотя он страстно искал ее, верить ему дано не было, – с кальвинистской убежденностью утверждает Шестов [16]. И если Ницше «играет святынями» – богохульствует, а вместе конструирует «идеал сверхчеловека», то призыв Шестова – не доверять ему, ибо «это все – напускное», «видимость, внешность, – для других»: «учение <…> только закрывает от нас <…> миросозерцание» [17].
Как видно, стремясь «беатифицировать» Ницше, Шестов отвергает прямой, непосредственный смысл ницшевских текстов. Так в русской герменевтике возникла важная тенденция – вслед за Шестовым их стали читать «наоборот», в соответствии с «музыкой», которую умели расслышать за словами. «Сочувственному взгляду» Шестова открылась за завесой «учения» «мучительная тайна» Ницше, – и мы можем себе представить тот гнев, который бы обрушил Ницше на голову нашего интерпретатора. Как бы вынес он жалость к себе со стороны Шестова, а вслед за ним сестер Герцык, Мережковского и прочих своих русских почитателей? Но думается, Шестов был бы просто обвинен в клевете, узнай Ницше, что разумел его российский толкователь под упомянутой «тайной». А именно: Шестов считал, что Ницше «подвергал сомнению все великое, высокое и богатое <…> единственно затем, чтобы оправдать свою жалкую и бедную жизнь», – «ведь нищий-то духом был он сам» [18].
Здесь не просто уничтожающий (хотя и невольный) выпад в адрес Ницше-мегаломана: согласно точно выверенному выражению Шестова, получается, что автор «Антихриста» – совершенный христианин, блаженный («Блаженны нищие духом…»: Мф.5,3)! Эта шестовская интуиция красной нитью пройдет через всю русскую ницшеану. Общим местом русской герменевтики станет и представление о Ницше как о христианском богослове-эзотерике, дополняющее его иконописный жизненный лик. Опять-таки впервые выдвинул его не кто иной, как Шестов. По его убеждению, Ницше, дошедший до «поразительной нравственной высоты именно в евангельском смысле», учил в соответствии с «самыми загадочными словами евангельской благовести: солнце одинаково всходит над грешными и праведниками». Ему открылась «великая истина» – «зло нужно так же, как и добро, больше, чем добро», – именно таков, по Шестову, смысл Мф. 5, 45 [19]. Как видно, Шестов хочет вписать в Евангелие манихейское воззрение. Не он ли развязал руки «дионисическим» и «люциферианским» толкователям Евангелий – экзегетам Мережковскому и Иванову? Ницшезация Нового Завета – быть может, самый большой соблазн, которому подпали русские ницшеанцы.
Думается, книга Шестова о Толстом и Ницше стала важным водоразделом русской мысли. Шестов не только попытался принять ницшевский вызов традиционному сознанию, но и создал образ Ницше как религиозного учителя. «Нитше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога» [20], – так заканчивается это примечательное сочинение. «Живой родник. Самое нужное – самыми простыми словами»: двадцатидвухлетнюю Евгению Герцык – а это весьма симптоматичная для Серебряного века фигура – именно шестовский трактат вывел из мировоззренческого тупика [21] (Герцык 1996, 104). Но призыву Шестова вняли и ее старшие современники – Мережковский, Бердяев, Иванов. Новое религиозное сознание встало под знак Ницше, и мы вправе называть его постницшевским христианством [22]. Это последнее усвоило и методологию Шестова – чтение сочинений Ницше «с точностью наоборот». Для новой герменевтической логики привычным стало именовать «святым мучеником» того, кто считал святых «физиологически-заторможенными существами», «идеальными кастратами», мучеников – «тупицами в вопросе об истине». И хотя Ницше не уставал повторять, что отрицает «Бога как Бога» [23], его ученики в России посвятили десятки трактатов открытому им «пути» к Богу.
При этом российские «изводы» ницшевской «иконы» вообще сильно редуцировали многогранно-противоречивый образ философа… редуцировали к личности интерпретатора. В случае Шестова (чьей областью были этика и религия) решающую роль сыграли его сострадательность, удивительная доброта, которые отмечают мемуаристы [24]. Е. Герцык, чей образ Ницше сложился под влиянием Шестова, сближала в своих представлениях Заратустру (вместе с Ницше) с калекой-горбуном из ницшевской поэмы [25], – но герцыковская «икона» – не что иное, как двойник шестовского «нищего духом». Сводя по сути философию Ницше к воплю озлобившегося на всех и вся инвалида, Шестов, принявший Ницше за нового Иова, сильно упрощает реальное положение дел. Даже в плоскости психологии (которую Шестов не покидает) действительный образ Ницше, создаваемый его текстами, выглядит несравненно богаче. Так, Ницше силился найти в болезни исток творческой мудрости и рассматривал ее как «великое здоровье». И выражение «amor fati», содержащее in nuce всю философию Ницше, указывает, что в его сочинениях звучит иная – куда более изысканная (чем «вопли») «музыка». Шестов хочет свести «тайный» пафос Ницше к тем ressentiment и decadence, борьбу с которыми в себе самом он описал в «Ecce Homo». Вопреки ярлыку «нищего духом», навешенному на философа Шестовым, в этой своей автобиографии он заявил: «Инстинкт самовосстановления воспретил мне философию нищеты и уныния» [26]. Но главное состоит том, что Шестов – диссидент от иудаизма, морализирующий рационалист – не заметил Ницше-мистика, элиминировал действительную глубину его внутренней жизни, его встречи с трансцендентным, из своей концепции Ницше-«Иова». Настоящая тайна Ницше не попала в поле его зрения: так, многословно рассуждая о «великом разрыве» Ницше с христианскими убеждениями (детально описанном в предисловии 1886 г. к «Человеческому, слишком человеческому»), он словно не заметил, что событие рождения в себе «свободного ума» (в 1876 г.) Ницше изображает как подчинение себя внешней злобной силе. Пренебрег Шестов и ницшевским опытом встреч с двойником (стихотворение «Сильс-Мария»), и астральными «птичьими» полетами, к которым, после катастрофы «разрыва», нередко вынуждался философ…
Что же воспринял