Но и в самой победе, вопреки Данилевскому, он видит не пафос самобытности русского народа, а великое византийское влияние, воспитавшее Россию: «Церковное же чувство и покорность властям (византийская выправка) спасли нас и в 12–м году. Известно, что многие крестьяне наши (конечно, не все, а застигнутые врасплох нашествием) обрели в себе мало чисто национального чувства в первую минуту. Они грабили помещичьи усадьбы, бунтовали против дворян, брали от французов деньги. Духовенство, дворянство и купечество вели себя иначе. Но как только увидали люди, что французы обдирают иконы и ставят в наших храмах лошадей, так народ ожесточился, и все приняло иной оборот»[174].
Вообще, и его, и В. С. Соловьева, Толстой раздражал как истинный враг христианства и человеческого бытия. Как и Соловьев в «Трех разговорах», он провидел в нем существо, пролагающее пути антихристу. В статье, где он говорит о приходе антихриста, он поминает и Толстого: «И старый безумец Лев Толстой продолжает безнаказанно и беспрепятственно проповедовать, что Бога нет, что всякое государство есть зло и, наконец, что пора прекратить существование самого рода человеческого. <…> И он не только жив и свободен, но и мы сами все, враги его бредней, увеличиваем его преступную славу, возражая ему!..»[175]
При полном неприятии Льва Толстого Леонтьев чувствовал интеллектуально — духовную близость к В. Соловьеву, считая его абсолютным гением, испытывая восторг от его текстов. Как замечал в своей фундаментальной книге о русском богословии Флоровский: «Для Леонтьева очень характерно, что с “Теократией” Влад. Соловьева он готов был и хотел бы согласиться, очень хотел бы себя открыто объявить его учеником, и к католичеству его влекло»[176]. В письме А. Александрову (от 5 февраля 1888 г.), за три года до смерти, уже после своей статьи «Владимир Соловьев против Данилевского» он советовал: «Познакомьтесь с Владимиром Соловьевым и <. > говорите с ним откровенно о Ваших сомнениях, о Толстом и т. д. Это человек благороднейший, в области мышления гениальнее Толстого, отличаясь от него, как небо от земли»[177]. Более того, сам Леонтьев полагал, что и Соловьев понимает его. Он делился с В. Розановым (27 мая 1891 г): «Соловьев лично очень дружит со мной и любит меня. Он к тому же очень сочувствует тому, что я религию ставлю выше национализма»[178].
Книгу Данилевского называли Библией, а иногда Кораном (В. Соловьев) славянофильства. Как же позиционировал себя Леонтьев по отношению к славянофильским идеям? Назвать его правоверным славянофилом невозможно. Даже С. Трубецкой, отмечая его близость к славянофилам, дал классическое определение: «Леонтьев — разочарованный славянофил, пессимист славянофильства»[179]. Еще более категоричен друг его последних лет Василий Розанов: По существу, он, как не имел предшественников (все славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы»[180].
Но это и сохранило его оригинальность. Самые плохие книги пишутся для поклонников. Так что в каком‑то смысле хорошо, что слава пришла после смерти. Но посмертная слава не отменяет прижизненной малоизвестности. А погруженный в неизвестность мыслитель не является общественной силой. В 1905 г. были написаны слова: «Был у нас в публицистике еще блестящий ум, не признанный при жизни, почти забытый по смерти, а между тем обладавший несравненно более философской складкой, нежели другие по преимуществу практические умы, касавшиеся монархической идеи. Я говорю о Константине Николаевиче Леонтьеве. <. > Борясь против славянофильства, Леонтьев доказывал неопределенность и малоподвижность славянского гения и настаивал на том, что Россия всем своим развитием обязана не славянству, а византинизму, который усвоила и несколько дополнила»[181].
Вспомним негативное отношение славянофилов к Петру. Оно, разумеется, имело градации, в разные годы было неоднозначным, но сошлюсь на слова И. С. Аксакова, самого влиятельного славянофильского публициста тех лет: «Петр презрел все законы органического развития»[182]. У Леонтьева видим прямо противоположное понимание Преобразователя. Накануне революций (всего за 50 лет) он увидел идущую гибель империи и понял: ее спасет не материальная сила, а идея. Леонтьев весьма ценил Петровскую реформу, видя в ней «нашу эпоху Возрождения». От нее начался расцвет России. Однако, на его взгляд, в XIX веке Петровская идея европеизма (западного европеизма) терпит крах. Прежде всего потому, что наступил кризис Европы, которая все дальше уходит от средневекового и возрожденческого христианства и в которой очевидно вступление на мировую арену истории того человека, что потом будет назван человеком «массового общества». И Леонтьеву показалось, что, может, византизм спасет Россию. Он писал: «Начинается разложение Петровской России по последним европейским образцам. <…> Цареградская Русь освежит Московскую, ибо Московская Русь вышла из Цареграда»[183].
Его любовь к Византии — это любовь к европейской прививке, более древней, нежели прививка Петровская. Стоит сослаться на наблюдение С. Булгакова: «Леонтьев весь в Европе и об Европе: для славянского мира он знает лишь слова разъедающей критики и презрения, и даже Россия как таковая для него ценна лишь постольку, поскольку хранит и содержит религиозно — культурное наследие византизма, да есть еще оплот спасительной реакции, сама же она обречена оставаться в состоянии ученичества и пассивного усвоения. А византизм есть, конечно, лишь более раннее лицо Европы же»[184]. Эти слова есть просто краткое резюме идей Леонтьева, разбросанных в разных его текстах. Византизм — это сохранившаяся в эпоху всеобщего распада подлинная Римская империя, поэтому ее влияние было продуктивно и для Западной, и для Восточной Европы: «Обломки византизма, рассеянные турецкой грозой на Запад и на Север, упали на две различные почвы. На Западе все свое, романо — германское, было уже и без того в цвету, было уже развито, роскошно, подготовлено; новое сближение с Византией и через ее посредство с античным миром привело немедленно Европу к той блистательной эпохе, которую привыкли звать Возрождением, но которую лучше бы звать эпохой сложного цветения Запада; ибо такая эпоха, подобная Возрождению, была у всех государств и во всех культурах, эпоха многообразного и глубокого развития, объединенного в высшем духовном и государственном единстве всего или частей. <…>. Соприкасаясь с Россией в XV веке и позднее, византизм находил еще бесцветность и простоту, бедность, неприготовленность. Поэтому он глубоко переродиться у нас не мог, как на Западе, он всосался у нас общими чертами своими чище и беспрепятственнее.
Нашу эпоху Возрождения, наш XV век, начало нашего более сложного и органического цветения, наше, так сказать, единство в многообразии, надо искать в XVII веке, во время Петра I или, по крайней мере, первые проблески при жизни его отца»[185].
От слов Леонтьева об эпохе Петра как нашем Возрождении легче перейти к тому неожиданно позитивному, что обыденный рассудок обычно осуждает, но что виделось Леонтьеву благом: «До Петра было больше однообразия в социальной, бытовой картине нашей, больше сходства в частях; с Петра началось более ясное, резкое расслоение нашего общества, явилось то разнообразие, без которого нет творчества у народов. Петр, как известно, утвердил еще более и крепостничество. Дворянство наше, поставленное между активным влиянием царизма и пассивным влиянием подвластных крестьянских миров (ассоциаций), начало расти умом и властью. <…> Осталось только явиться Екатерине II, чтобы обнаружились и досуг, и вкус, и умственное торжество, и более идеальные чувства в общественной жизни. Деспотизм Петра был прогрессивный и аристократический, в смысле вышеизложенного расслоения общества. Либерализм Екатерины имел решительно тот же характер. Она вела Россию к цвету, к творчеству и росту. Она усиливала неравенство. Вот в чем главная ее заслуга. <. > С ее времени дворянство стало несколько независимее от государства, но по — прежнему оно преобладало и господствовало над другими классами нации. Оно еще более выделилось, выяснилось, индивидуализировалось и вступило в тот период, когда из него постепенно вышли Державин, Карамзин, Жуковский, Батюшков, Пушкин, Гоголь и т. п.»[186].
Отметим важнейшее отличие Леонтьева от славянофилов: как Тютчев, как Соловьев, непризнанный мыслитель был государственник.
2. Россия и главная идея Леонтьева
Чем же сильно государство? Конечно, материальными силами, войском прежде всего. Прошедший Крымскую компанию как врач, Леонтьев весьма ценил воинственность, даже графа Вронского из «Анны Карениной» оправдывал, ставя выше графа Толстого, его создателя, потому что Вронский настоящий военный. Но сильнее всего держит единство государства идея. Россия, по Леонтьеву, сильна византийской идеей. Без нее она идет к разложению: «Я, признаюсь, за последние годы совершенно разочаровался в моей отчизне и вижу, напротив, какую‑то дряхлость ума и сердца… не столько в отдельных лицах, сколько в том, что зовут Россия. Чтобы она немного помолодела… боюсь сказать… что нужно… быть может, целый период внешних войн и кровопролитий вроде 30–летней войны или, по крайней мере, эпохи Наполеона 1–го»[187].


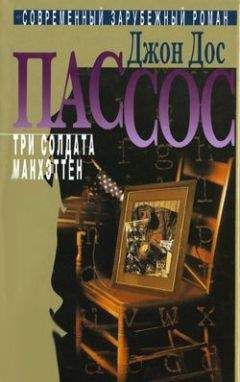
![Анатолий Ливри - Ecce homo[рассказы]](https://cdn.my-library.info/books/116286/116286.jpg)

