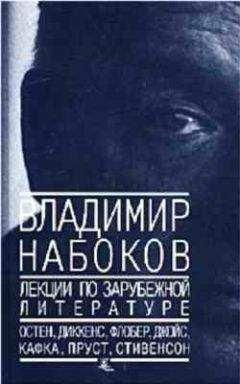Когда же ее крестная, мисс Барбери (на самом деле ее тетка), умирает и юрист Кендж берется задело, стиль рассказа Эстер поглощается стилем Диккенса. «—Не слыхала о тяжбе "Джарндисы против Джарндисов"? — проговорил мистер Кендж, глядя на меня поверх очков и осторожно поворачивая их футляр какими-то ласкающими движениями». Понятно, что происходит: Диккенс принимается живописать восхитительного Кенджа, вкрадчивого, энергичного Кенджа, Велеречивого Кенджа (таково его прозвище) и совершенно забывает, что все это якобы пишет наивная девочка. И уже на ближайших страницах мы встречаем диккенсовские фигуры речи, прокравшиеся в ее рассказ, обильные сравнения и тому подобное. «Она (миссис Рейчел. — В.Н.) коснулась моего лба холодным прощальным поцелуем, упавшим на меня словно капля талого снега с каменного крыльца, — в тот день был сильный мороз, — а я почувствовала такую боль…» или «я… стала смотреть на опушенные инеем деревья, напоминавшие мне красивые кристаллы; на поля, совсем ровные и белые под пеленой снега, который выпал накануне; на солнце, такое красное, но излучавшее так мало тепла; на лед, отливающий темным металлическим блеском там, где конькобежцы и люди, скользившие по катку без коньков, смели с него снег». Или описание Эстер неопрятного одеяния миссис Джеллиби: «мы не могли не заметить, что платье ее не застегнуто на спине и видна корсетная шнуровка — ни дать ни взять решетчатая стена садовой беседки». Тон и ирония в случае с головой Пипа Джеллиби, застрявшей между прутьями, явно принадлежат Диккенсу: «Я… подошла к бедному мальчугану, который оказался одним из самых жалких замарашек, каких я когда-либо видела; застряв между двумя железными прутьями, он, весь красный, вопил не своим голосом, испуганно и сердито, в то время как продавец молока и приходский надзиратель, движимые самыми лучшими побуждениями, старались вытащить его наверх за ноги, очевидно полагая, что это поможет его черепу сжаться. Присмотревшись к мальчику (но сначала успокоив его), я заметила, что голова у него, как у всех малышей, большая, а значит туловище, вероятно, пролезет там, где пролезла она, и сказала, что лучший способ вызволить ребенка — это пропихнуть его головой вперед. Продавец молока и приходский надзиратель принялись выполнять мое предложение с таким усердием, что бедняжка немедленно грохнулся бы вниз, если бы я не удержала его за передник, а Ричард и мистер Гаппи не прибежали на дворик через кухню, чтобы подхватить мальчугана, когда его протолкнут».
Завораживающее красноречие Диккенса особенно дает себя почувствовать в таких пассажах, как рассказ Эстер о встрече с леди Дедлок, ее матерью: «Я объяснила ей, насколько сумела тогда и насколько могу припомнить теперь, ибо волнение мое и отчаяние были так велики, что я сама едва понимала свои слова, хотя в моей памяти неизгладимо запечатлелось каждое слово, произнесенное моей матерью, чей голос звучал для меня так незнакомо и грустно, — ведь в детстве я не училась любить и узнавать этот голос, а он никогда меня не убаюкивал, никогда не благословлял, никогда не вселял в меня надежду, — повторяю, я объяснила ей, или попыталась объяснить, что мистер Джарндис, который всегда был для меня лучшим из отцов, мог бы ей что-нибудь посоветовать и поддержать ее. Но моя мать ответила: нет, это невозможно; никто не может ей помочь. Перед нею лежит пустыня, и по этой пустыне она должна идти одна».
К середине книги Диккенс, повествуя от имени Эстер, пишет раскованнее, гибче, в более традиционной манере, чем от собственного имени. Это, а также отсутствие выстроенных описаний в начале глав — их единственное стилевое различие. У Эстер и у автора постепенно вырабатываются различные точки зрения, отраженные в их манере письма: с одной стороны, вот Диккенс с его музыкальными, юмористическими, метафорическими, ораторскими, рокочущими стилевыми эффектами; а вот Эстер, начинающая главы плавно и выдержанно. Но в описании Вестминстер-Холла по окончании тяжбы Джарндисов (я цитировал его), когда выясняется, что все состояние ушло на судебные издержки, Диккенс почти полностью сливается с Эстер. В стилистическом отношении вся книга — это постепенное, незаметное продвижение к их полному слиянию. И когда они рисуют словесный портрет или передают разговор, никакой разницы между ними не ощущается.
Спустя семь лет после случившегося, как становится известно из главы шестьдесят четвертой, Эстер пишет свою повесть, в которой тридцать три главы, то есть половина всего романа, состоящего из шестидесяти семи глав. Удивительная память! Должен сказать, что, несмотря на великолепное построение романа, основной просчет был в том, что Эстер дали рассказать часть истории. Я бы ее и близко не подпустил!
II. ВНЕШНОСТЬ ЭСТЕРЭстер так напоминает свою мать, что мистер Гаппи поражается необъяснимому сходству, когда во время загородной поездки посещает Чесни-Уолд и видит портрет леди Дедлок. Мистер Джордж тоже обращает внимание на внешность Эстер, не сознавая, что видит сходство со своим умершим другом капитаном Хоудоном, ее отцом. И Джо, которому велят «не задерживаться», и он устало бредет сквозь непогоду, чтобы найти приют в Холодном доме, — перепуганный Джо с трудом убеждается, что Эстер не та леди, которой он показывал дом Немо и его могилу. Впоследствии Эстер пишет в главе тридцать первой, что у нее было дурное предчувствие в тот день, когда заболел Джо, предзнаменование, которое полностью сбылось, поскольку Чарли заражается оспой от Джо, а когда Эстер выхаживает ее (внешность девочки не пострадала), то заболевает сама и когда наконец выздоравливает, лицо ее изрыто безобразными оспинами, совершенно изменившими ее внешность. Поправившись, Эстер замечает, что из ее комнаты убрали все зеркала, и понимает почему. И когда она приезжает в имение мистера Бойторна в Линкольншире, рядом с Чесни-Уолдом, она наконец решается взглянуть на себя. «Ведь я еще ни разу не видела себя в зеркале и даже не просила, чтобы мне возвратили мое зеркало. Я знала, что это малодушие, которое нужно побороть, но всегда говорила себе, что "начну новую жизнь", когда приеду туда, где находилась теперь. Вот почему мне хотелось остаться одной и вот почему, оставшись теперь одна в своей комнате, я сказала: "Эстер, если ты хочешь быть счастливой, если хочешь получить право молиться о том, чтобы сохранить душевную чистоту, тебе, дорогая, нужно сдержать слово". И я твердо решила сдержать его; но сначала ненадолго присела, чтобы вспомнить обо всех дарованных мне благах. Затем помолилась и еще немного подумала.
Волосы мои не были острижены; а ведь им не раз угрожала эта опасность. Они были длинные и густые. Я распустила их, зачесала с затылка на лоб, закрыв ими лицо, и подошла к зеркалу, стоявшему на туалетном столе. Оно было затянуто тонкой кисеей. Я откинула ее и с минуту смотрела на себя сквозь завесу из собственных волос, так что видела только их. Потом откинула волосы и, взглянув на свое отражение, успокоилась — так безмятежно смотрело оно на меня. Я очень изменилась, ах, очень, очень! Сначала мое лицо показалось мне таким чужим, что я, пожалуй, отпрянула бы назад, отгородившись от него руками, если бы не успокоившее меня выражение, о котором я уже говорила. Но вскоре я немного привыкла к своему новому облику и лучше поняла, как велика перемена. Она была не такая, какой я ожидала, но ведь я не представляла себе ничего определенного, а значит — любая перемена должна была меня поразить.
Я никогда не была и не считала себя красавицей, и все-таки раньше я была совсем другой. Все это теперь исчезло. Но провидение оказало мне великую милость — если я и плакала, то недолго и не очень горькими слезами, а когда заплела косу на ночь, уже вполне примирилась со своей участью».
Она признается себе, что могла бы полюбить Аллена Вудкорта и быть преданной ему, но теперь с этим надо покончить. Ее беспокоят цветы, которые он когда-то подарил ей, а она их засушила. «В конце концов я поняла, что имею право сохранить цветы, если буду дорожить ими только в память о том, что безвозвратно прошло и кончилось, о чем я никогда больше не должна вспоминать с другими чувствами. Надеюсь, никто не назовет это глупой мелочностью. Для меня все это имело очень большое значение». Это подготавливает читателя к тому, что позднее она примет предложение Джарндиса. Она твердо решила оставить все мечты о Вудкорте.
Диккенс обдуманно не договаривает в данной сцене, поскольку должна оставаться некоторая неясность относительно изменившегося лица Эстер, чтобы читатель не был обескуражен в конце книги, когда Эстер становится невестой Вудкорта и когда на самых последних страницах закрадывается сомнение, прелестно выраженное, изменилась ли вообще Эстер внешне. Эстер видит свое лицо в зеркале, а читатель его не видит, и никаких подробностей не сообщается и потом. Когда происходит неизбежное свидание матери с дочерью и леди Дедлок прижимает ее к груди, целует, плачет и т. д., самое важное о сходстве сказано в любопытном рассуждении Эстер: «я… подумала в порыве благодарности провидению: "Как хорошо, что я так изменилась, а значит, никогда уже не смогу опозорить ее и тенью сходства с нею… как хорошо, что никто теперь, посмотрев на нас, и не подумает, что между нами может быть кровное родство". Все это настолько маловероятно (в пределах романа), что начинаешь думать, была ли необходимость обезображивать бедную девушку для достаточно абстрактной цели; кроме того, может ли оспа уничтожить семейное сходство? Ада прижимает «к своей прелестной щечке» «рябое лицо» подруги — и это самое большее, что дано увидеть читателю в изменившейся Эстер.