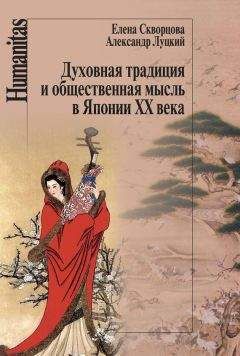Столкновение таких различных и в материальном, и в духовном плане цивилизаций, как Япония и Запад, носило драматический характер. Две противоположные тенденции: интеллектуальное самоуничижение, с одной стороны, и национальный нарциссизм и восторженное самолюбование, с другой – наиболее ярко представляли Ониси Хадзимэ (1864–1900) и Окакура Какудзо.
Ониси Хадзимэ считал конфликт между старыми мировоззренческими системами Китая и Индии, распространёнными в Японии, и западным христианским мировоззрением конфликтом между консерватизмом и прогрессом. Христианство, надеялся Ониси, должно было повлиять в лучшую сторону на всю японскую духовную жизнь, включая художественные представления. По его мнению, отсутствие демонстрации ярких и сильных религиозных переживаний в японской художественной традиции не самым лучшим образом сказалось на качестве национального искусства. Лишённое сильного религиозного чувства, японское искусство не могло быть проводником новых мощных мировоззренческих идей, совершенно необходимых для модернизации страны. «По мере своей японизации, – писал Ониси Хадзимэ, – христианство неизбежно трансформирует Японию».[158]
Представитель другого «полюса», полюса удовлетворённой самодостаточности, Окакура Какудзо, в книге «Идеалы Востока», изданной в Лондоне в 1903 г.,[159] представлял Японию как художественный музей Азии, настоящую сокровищницу где можно найти произведения искусства, созданные двумя ведущими азиатскими цивилизациями – индийской и китайской. Традиционное японское искусство он оценивал как живое выражение конфуцианских, даосских, индуистских и буддийских идеалов. По мнению Окакуры, уникальное географическое положение страны способствовало формированию неповторимого национального характера. С одной стороны, островитяне-японцы имели возможность противостоять насильственному завоеванию соседей, с другой – воспринимать всё лучшее в их культуре. «Священная честь нашей солнечной расы – оставаться непобедимыми не только в политическом смысле, но и в сохранении живого духа свободы, жизни, мысли, искусства. И Япония не должна забывать, что сегодня она стоит лицом к лицу с новыми вызовами, требующими ещё большего воодушевления и самоуважения (курсив мой. – Е. С.)».[160] Гегелевский Абсолютный дух, закончив свой исторический виток в тевтонских землях, считал Окакура Какудзо, должен вернуться к своему истоку – в Азию, а конкретно – в её наиболее интеллектуально продвинутую часть, Японию.
В повседневной жизни восприятие западных цивилизационных ценностей в эпоху Мэйдзи также отмечалось шараханием японцев из крайности в крайность. Европейски ориентированная молодёжь стала непослушной, прекратила уважать мнение старших, которые, не зная ни слова по-английски, демонстрировали в глазах юных «западников» свою интеллектуальную беспомощность. Ещё в 1881 г. публицист Токутоми Сохо в организованном им журнале «Друг народа» писал: «Люди старшего поколения, покачиваясь в повозке прошлого, сходят со сцены. Зато молодёжь новой Японии, оседлав коня грядущих дней, стремительно въезжает на арену будущего. Идите вперёд, молодые энтузиасты, ратующие за преобразования!»[161] Многие горячие головы агитировали даже за отмену иероглифики и замену её на латиницу, а японскую традиционную культуру вместе с её носителями объявляли анахронизмом.[162]
Другой крайностью было мнение о Японии, унаследованное от учёных-почвенников эпохи Эдо. Её сторонники превозносили принципы имперской организации общества, непрерывность (в отличие от западных династий) многовековой линии наследования императорского трона, твёрдые моральные устои японского народа, его высокую культуру и самобытное искусство, подчёркивали ни с чем не сравнимую красоту японской природы. Этот идеализированный образ часто противопоставлялся западной цивилизации, построенной, по мнению японских патриотов, только «на математике и расчёте».[163] Приступы национального нарциссизма сопровождались одновременно переживанием комплекса национальной неполноценности.
Выпускник Токийского университета Миякэ Сэцурэй (1860–1945) основал журнал «Нихондзин» (Японец), на страницах которого начал проводить активную деятельность по поиску архетипической схемы национальной идентичности. Результатом стало появление в 1891 г. двух его парных работ: «Правдивый, добрый и красивый японец» (Синдзэмби нихондзин) и «Лживый, злой и уродливый японец» (Гиакусю нихондзин). Хотя сами названия демонстрируют дихотомически-односторонний подход к сложной проблеме, важно, что обе противоположные характеристики японской национальной идентичности представлены одним и тем же человеком, вполне отдающим себе отчёт в противоречивости структуры социального бытия. Миякэ и его сподвижники по журналу, «не отвергая необходимости заимствований с Запада, отрицали тезис, что японцы должны ограничиваться копированием иноземных образцов, поскольку это путь в никуда. Имитация означает смерть национального духа».[164]
Эпоха Мэйдзи ознаменовалась первыми военными и техническими успехами, показавшимися свидетельством правомерности принятого пути на совмещение самурайского воинственного ригоризма, облагороженного красотой патриотизма, и идеи военно-технического прогресса. Более того, скоро выяснилось, что главной целью японского государства той поры было желание стать «железным кулаком» на мировой арене. Это породило в общественном мнении Запада тезис о «жёлтой опасности». Растущие милитаризация и агрессивность Японии подогревались успешными войнами с Китаем и Россией. Неумеренная гордость японцев и уверенность в правильности избранного пути на силовое присутствие в мире привели к росту в Японии националистических и шовинистических настроений. Великий японский учёный-теоретик, продолжатель национальной духовной традиции и основатель киотской философской школы Нисида Китаро (1870–1945) подвергся нападкам за антипатриотический «космополитизм».[165] Он был вынужден покинуть Киото и жить затворником в небольшом провинциальном городке Камакуре.
Особо следует вспомнить писателя, оставившего заметный след в японской литературе, через судьбу которого прошла мучительная любовь к западной цивилизации. Это Мори Огай (1862–1922) – выходец из самурайской семьи, получивший классическое конфуцианское образование. Такое образование включало также знание древнеяпонской литературы и классической японской литературы вагаку. Родившись в семье потомственных медиков, Мори должен был стать врачом. В эпоху закрытия страны новейшие знания по медицине Запада можно было почерпнуть только из одного источника – голландских книг. Они ввозились в страну через о. Дэсима, о чём говорилось в самом начале. Мори с детства, помимо вагаку, изучил также голландский язык, а потом продолжил образование в столице. В течение 1872–1876 гг. он жил в доме Ниси Аманэ и учился на подготовительных курсах в медицинском колледже. Поступив в колледж, Мори Огай автоматически стал студентом вновь образованного Токийского университета, поскольку в 1877 г. колледж был преобразован в медицинский факультет. Здесь он прекрасно овладел немецким, поскольку преподавание велось специалистами из Германии.
В 1881 г. в звании лейтенанта Мори становится санитарным врачом японской армии. В 1884–1888 гг. он стажируется в прусской армии, изучая санитарию и гигиену. Одновременно будущий писатель знакомится с европейской философией, литературой, искусством (ходит на концерты Вагнера, посещает мюнхенские выставки) и ведёт дневник на китайском языке – традиционное занятие всех образованных людей Японии.
По возвращении из любимой и, как он говорил «комфортабельной» Германии в родную антисанитарную Японию Мори Огай делает стремительную военную, а параллельно – не менее стремительную и блестящую – литературную карьеру. Оказавшись в ссылке из-за интриг завистливых сослуживцев, он, не теряя времени, изучил французский, русский и санскрит, при этом постоянно занимаясь переводами с немецкого. Вернувшись в Токио, Мори издаёт литературный журнал и становится знаменитым писателем, критиком, публицистом. Он перевёл частично на японский язык «Эстетику» Э. Гартмана, «Фауста» Гёте и много других произведений германских поэтов. В 1916 г. Мори Огай вышел в отставку в чине генерала санитарной службы, достигнув высшего поста, какого можно было достичь с его происхождением и образованием.
Всё творчество этой замечательной личности посвящено сотрудничеству между культурами Японии и Запада.[166] Мори стремился объяснить и японскому, и европейскому читателю, какие вещи в культурной традиции своей родины он считает достойными восхищения, а какие предрассудками, с которыми следует как можно скорее расстаться. Особый интерес представляют его рассказы «Случай в Сакаи» и «Семья Абэ». В первом рассказе речь идёт о ритуальной казни группы военных, расстрелявших французских солдат и приговорённых к самоубийству в присутствии французского посланника. Наблюдая, как первые японцы взрезают себе животы, француз оказывается захваченным чувством, никогда им до сих пор не испытывавшимся. Это одновременно смесь чудовищного ужаса, но и глубокого уважения. Потрясённый посланник требует помиловать не успевших совершить самоубийство и покидает место казни. Автор рассказа демонстрирует здесь соприкосновение разных культурных традиций, в частности, экзистенциальной и традиционно японской культуры отношения к смерти. Опровергая распространённое в конце XIX в. на Западе мнение о варварстве японских обычаев, писатель подчёркивает их глубокую философию – философию кодекса бусидо, предполагающую ритуал сэппуку-харакири. Смерть значима для каждого индивидуума – и на Западе, и на Востоке – но значима по-разному.