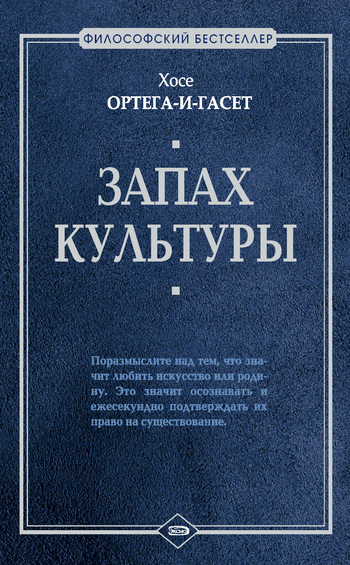взятых напрокат трупов. Восковая фигура – это чистая мелодрама.
Мне думается, что новое художественное восприятие руководится чувством отвращения к «человеческому» в искусстве – чувством весьма сходным с тем, которое ощущает человек наедине с восковыми фигурами. В противовес этому мрачный юмор восковых фигур всегда приводил в восторг простонародье. В данной связи зададимся дерзким вопросом, не надеясь сразу на него ответить: что означает это отвращение к «человеческому» в искусстве? Отвращение ли это к «человеческому» в жизни, к самой действительности или же как раз обратное – уважение к жизни и раздражение при виде того, как она смешивается с искусством, с вещью столь второстепенной, как искусство? Но что значит приписать «второстепенную» роль искусству – божественному искусству, славе цивилизации, гордости культуры и т. д.? Я уже сказал, читатель, – слишком дерзко об этом спрашивать, и пока что оставим это.
У Вагнера мелодрама достигает безмерной экзальтации. И, как всегда, форма, достигнув высшей точки, начинает превращаться в свою противоположность. Уже у Вагнера человеческий голос перестает быть центром внимания и тонет в космическом. Однако на этом пути неизбежной была еще более радикальная реформа. Необходимо было изгнать из музыки личные переживания, очистить ее, довести до образцовой объективности. Этот подвиг совершил Дебюсси. Только после него стало возможно слушать музыку невозмутимо, не упиваясь и не рыдая. Все программные изменения, которые произошли в музыке за последние десятилетия, выросли в этом новом, надмирном мире, гениально завоеванном Дебюсси. Это превращение субъективного в объективное настолько важно, что перед ним бледнеют последующие дифференциации. Дебюсси дегуманизировал музыку, и поэтому с него начинается новая эра звукового искусства.
То же самое произошло и в лирике. Следовало освободить поэзию, которая под грузом человеческой материи превратилась в нечто неподъемное и тащилась по земле, цепляясь за деревья и задевая за крыши, подобно поврежденному воздушному шару. Здесь освободителем стал Малларме, который вернул поэзии способность летать и возвышающую силу. Сам он, может быть, и не осуществил того, что хотел, но он был капитаном новых исследовательских полетов в эфире, именно он отдал приказ к решающему маневру – сбросить балласт.
Вспомним, какова была тема романтического века. Поэт с возможной изысканностью посвящал нас в приватные чувства доброго буржуа, в свои беды, большие и малые, открывая нам свою тоску, политические и религиозные симпатии, а если он англичанин, – то и грезы за трубкой табака. Поэт всячески стремился растрогать нас своим повседневным существованием. Правда, гений, который время от времени появлялся, допускал, чтобы вокруг «человеческого» ядра поэмы воссияла фотосфера, состоящая из более тонко организованной материи, – таков, например, Бодлер. Однако подобный ореол возникал непреднамеренно. Поэт же всегда хотел быть человеком. И это представляется молодежи скверным, спросит, сдерживая возмущение, некто к ней не принадлежащий. Чего же они хотят? Чтобы поэт был птахой, ихтиозавром, додекаэдром?
Не знаю, не знаю; но мне думается, что поэт нового поколения, когда он пишет стихи, стремится быть только поэтом. Мы еще увидим, каким образом все новое искусство, совпадая в этом с новой наукой, политикой, новой жизнью, ликвидирует наконец расплывчатость границ. Желать, чтобы границы между вещами были строго определены, есть признак мыслительной опрятности. Жизнь – это одно, Поэзия – нечто другое, так теперь думают или по крайней мере чувствуют. Не будем смешивать эти две вещи. Поэт начинается там, где кончается человек. Судьба одного – идти своим «человеческим» путем; миссия другого – создавать несуществующее. Этим оправдывается ремесло поэта. Поэт умножает, расширяет мир, прибавляя к тому реальному, что уже существует само по себе, новый, ирреальный материк. Слово «автор» происходит от «auctor» – тот, кто расширяет. Римляне называли так полководца, который добывал для родины новую территорию.
Малларме был первым человеком прошлого века, который захотел быть поэтом; по его собственным словам, он «отверг естественные материалы» и сочинял маленькие лирические вещицы, отличные от «человеческой» флоры и фауны. Эта поэзия не нуждается в том, чтобы быть «прочувствованной», так как в ней нет ничего «человеческого», а потому и нет ничего трогательного. Если речь идет о женщине, то – о «никакой», а если он говорит «пробил час», то этого часа не найти на циферблате. В силу этих отрицаний стихи Малларме изгоняют всякое созвучие с жизнью и представляют нам образы столь внеземные, что простое созерцание их уже есть величайшее наслаждение. Среди этих образов что делать со своим бедным «человеческим» лицом тому, кто взял на себя должность поэта? Только одно: заставить его исчезнуть, испариться, превратиться в чистый, безымянный голос, который поддерживает парящие в воздухе слова – истинные персонажи лирического замысла. Этот чистый, безымянный голос, подлинный акустический субстрат стиха, есть голос поэта, который умеет освобождаться от «человеческой» материи. Со всех сторон мы приходим к одному и тому же – к бегству от человека.
Есть много способов дегуманизации. Возможно, сегодня преобладают совсем другие способы, весьма отличные от тех, которыми пользовался Малларме, и я вовсе не закрываю глаза на то, что у Малларме все же имеют место романтические колебания и рецидивы. Но так же, как вся современная музыка началась с Дебюсси, вся новая поэзия развивается в направлении, указанном Малларме. И то и другое имя представляется мне существенным – если, отвлекаясь от частностей, попытаться определить главную линию нового стиля.
Нашего современника моложе тридцати лет весьма трудно заинтересовать книгами, где под видом искусства излагаются идеи или пересказываются житейские похождения каких-то мужчин и женщин. Все это отдает социологией, психологией и было бы охотно принято этим молодым человеком, если бы, без всяких претензий на искусство, об этом говорилось от имени социологии или психологии. Но искусство для него – нечто совсем другое. Поэзия сегодня – это высшая алгебра метафор.
Метафора – это, вероятно, наиболее богатая из тех потенциальных возможностей, которыми располагает человек. Ее действенность граничит с чудотворством и представляется орудием творения, которое Бог забыл внутри одного из созданий, когда творил его, – подобно тому, как рассеянный хирург порой оставляет инструмент в теле пациента. Все прочие потенции удерживают нас внутри реального, внутри того, что уже есть. Самое большее, что мы можем сделать, – это складывать или вычитать одно из другого. Только метафора облегчает нам выход из этого круга и воздвигает между областями реального воображаемые рифы, цветущие призрачные острова.
Поистине удивительна в человеке эта мыслительная потребность заменять один предмет другим не столько в целях овладения предметом, сколько из желания скрыть его. Метафора ловко прячет предмет, маскируя его другой вещью; метафора вообще не имела бы смысла, если бы за ней не стоял инстинкт, побуждающий