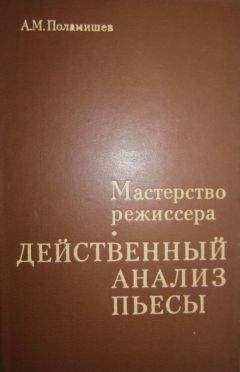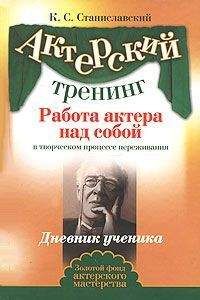Рассердившись на няньку (а может быть, и на хохочущих товарищей в зале), исполнитель Астрова начал ругать и соседей-«чудаков», и болеющих мужиков. И все это закончилось почти авторскими словами: «…ничего я не хочу, ничего мне не нужно, никого я не люблю…» Затем Астров, поняв, что напрасно рассердился на няньку, подошел и поцеловал ее: «Вот разве тебя только люблю. У меня в детстве была такая же нянька».
Когда же вышел в нарядном галстуке Войницкий, который начал ворчать по поводу того, что его заставляют вести теперь праздный образ жизни, Астров совершенно откровенно начал подтрунивать над Войницким и довел его до того, что последний попытался незаметно снять «щегольский галстук». Всем было совершенно ясно, что Войницкий нарядился ради Елены Андреевны и что если он чем-то недоволен, то только тем, что уже два часа ее не видит.
Оказывается, и для Марины, и для Астрова, и для Войницкого поводом для конфликта является факт «отсутствия Серебряковых».
Когда закончилась эта сцена, то все единогласно пришли к выводу, что первоначальное определение «исходного события» было ошибочным. «Два часа, как самовар на столе, а Серебряковых все нет!» — вот как мы определили первый конфликтный факт «Дяди Вани».
И опять, как и в случае с «Бесприданницей», может возникнуть вопрос: но что же это за такое совсем не «событийное» событие?! Думается, что мы только лишний раз имеем возможность убедиться в том, что «событийность» должна определяться прежде всего «конфликтностью», а не масштабом факта. Масштабность всегда относительна.
Любопытно, что другой постановщик «Дяди Вани» — Л. Хейфец, идя несколько иным путем в своем анализе начала пьесы, приходит к совершенно идентичным выводам по поводу «исходного события». Режиссер замечает: «И если попробовать теперь определить первое событие пьесы» то получается, что опоздание господ к чаю и остывающий самовар и есть маленькое жизненное событие, которое рождает в людях целый рой чувств и мыслей, а также определяет их действие и поведение. Тем и труден и велик Чехов как драматург, что события кажутся очень незначительными, а оценка, восприятие их громадны»[97] (курсив мой. — А. П.). Очевидно, действительно у Чехова все дело в оценках факта[98].
Когда мы анализировали оценку выстрела Войницкого в Серебрякова, то пришли к выводу, что конфликтным моментом, явившимся непосредственным поводом для выстрела, был также незначительный на первый взгляд факт — Серебряковы вошли в комнату Войницкого не вовремя.
Нас укрепляет в правильности хода наших рассуждений то, как Л. Хейфец рассматривает дальнейшие факты «Дяди Вани»: «Следующим событием в первом акте будет возвращение с прогулки. Наконец-то состоится чай, это ожидается как праздник. Но чай тоже будет сорван, профессор потребует чай к себе, он не захочет пить со всеми. Это будет событием третьим. Сорванный чай! Какая мелочь! Но эта мелочь так подействует на дядю Ваню, что он почти прокричит свой монолог»[99]. Интересно, что в ходе наших репетиций исполнитель Войницкого в этом месте взбегал на крылечко террасы и кричал вслед ушедшему Серебрякому: «Напрягши ум, наморщивши чело, все оды пишем, пишем и ни себе, ни им похвал нигде не слышим!…»
В этой сцене, как и в предшествующей ей, студенты не могли отделаться от ощущения, что Чехов несколько грустно улыбается по поводу столь бурных страстей, вызванных не столь уж великими причинами…
Мы задумались о жанре пьесы. У Чехова жанр не обозначен, просто «сцены из деревенской жизни». Пьесу же чаще всего играли и играют как психологическую драму. Так же играют и «Чайку», хотя Чехов почему-то назвал ее комедией. К жанру комедии Чехов отнес также и «Вишневый сад».
Каков же жанр рассматриваемой нами чеховской пьесы? Как относится автор к выводимым им на сцену событиям, к людям, участвующим в этих событиях?
Обычно пьеса «Дядя Ваня» играется как история талантливого дяди Вани, посвятившего по доброте душевной свой талант бездарному профессору Серебрякову. Исполнители роли дяди Вани, как правило, раскрывают перед зрителями драму погибшего таланта.
Но об этом ли написал Чехов? Мы постарались беспристрастно, объективно взглянуть на происходящие в пьесе события, конфликты и на поступки, порождающие эти события и конфликты, т.е. определить в конечном счете сквозное действие каждой роли и спектакля.
Да, действительно, несколько лет назад Иван Петрович Войницкий чуть ли не молился на Серебрякова: не только управлял имением, но и переводил необходимые для профессора статьи, собирал все печатные работы Серебрякова, гордился своим родством с ним… Но теперь тот же дядя Ваня поносит Серебрякова в глаза и за глаза на чем свет стоит, называет его «бездарностью, старым сухарем, ученой воблой…».
Даже если допустить, что дядя Ваня дошел своим умом до этих «открытий» (а не из-за официальной отставки Серебрякова!), то и в этом случае, можно ли извинить подобное поведение Войницкого?! Как бы ни было ему горько оттого, что не тому богу молился всю жизнь, все равно может ли интеллигентный, человек вымещать на ком-то свою личную досаду?! И на ком вымещать? На человеке, которого сам прежде боготворил! Кстати говоря, в «бездарности» Серебрякова убежден только Войницкий, обе жены Серебрякова («умницы», как говорит сам Войницкий) этого почему-то не заметили, равно как и старуха мать. Как не замечал этого долгие годы и сам дядя Ваня. Во всяком случае, какова бы ни была научная ценность профессора Серебрякова, он, кроме всего прочего, несчастный старик, очень болезненно переживающий свою отставку, приехавший искать приюта и понимания у единственно близких ему людей.
И как же его встретил дядя Ваня? По принципу: «бить лежачего?» К сожалению, профессор тоже в свою очередь ведет себя далеко не интеллигентно. У Серебрякова, помимо старческих болезней, с возрастом развились привычки, которые, конечно, не очень-то удобны в общежитии, но от которых он абсолютно не склонен отказываться: ночью работать, вставать поздно. Отсюда очень поздние завтраки, обеды. Естественно, что это раздражает людей, привыкших в свою очередь к другому распорядку дня. Когда Серебрякова донимают его болезни, он не разрешает домочадцам спать — необходимо дежурить возле него. Правда, может быть, это не столь «болезнь ног», как боль одиночества. Елена Андреевна единственная, кто связывает старика с его лучшими днями, когда он был и известным ученым, и просто любимым мужчиной, — она окружена теперь вниманием других. Ведь Войницкий, как и Астров, совершенно откровенно ухаживают за ней! Нехорошо старому профессору: с Войницким они ссорятся ежечасно, Астрова профессор видеть не может. Из-за того же Астрова влюбленная в него Соня перестала разговаривать с мачехой. Обстановка в доме накаляется. Всем плохо! Вспомним слова Елены Андреевны, обращенные к дяде Ване: «неблагополучно в этом доме. Ваша мать ненавидит все, кроме своих брошюр и профессора. Профессор раздражен, мне не верит, вас боится. Соня злится на отца, злится на меня и не говорит со мною вот уже две недели. Вы ненавидите мужа и открыто презираете свою мать. Я раздражена и сегодня раз двадцать принималась плакать. Неблагополучно в этом доме… Вы, Иван Петрович, образованны и умны, кажется, должны бы понимать, что мир погибает не от разбойников, не от пожаров, а от ненависти, вражды, от всех мелких дрязг…»
Но отчаянный вопль Елены Андреевны уже никого остановить не может! Безжалостное поведение одних вызывает такой же ответ у других. Серебряков решил расправиться со всеми — продать имение! Но еще до объявления этого решения Войницкого постиг страшный удар: он был свидетелем того, как Астров целовал Елену Андреевну! Теперь же Войницкий не в силах перенести всего происшедшего, он уходит в свою комнату, чтобы покончить с собою. «Будешь ты меня помнить!» — крикнет он в дверях Серебрякову. Но застрелиться не хватило решимости. И возможно, потому, что свидетелями этого стали Елена Андреевна и Серебряков, пуля летит… в сторону Серебрякова!
Могло ли подобное человеческое поведение вызвать сочувствие Чехова? Мог ли кто-нибудь из героев подобной историй быть по-настоящему симпатичен Чехову, человеку, который считал главным делом жизни — «выдавливать… из себя раба»? Выводя на сцену своих героев — представителей интеллигенций, Чехов предъявлял, как нам показалось, суровые требования к нравственной стороне жизни этих людей. Недаром современник Антона Павловича и летописец Художественного театра Н. Эфрос заметил: «Чехов — писатель очень мягкий по манере, но жестокий по существу». Примечательно, что это определение родилось после первого представления «Дяди Вани» на сцене МХТ в 1899 году[100].
Против эгоизма, разрушающего человеческую личность, с болью и обидой за людей выступает, как нам кажется в этой пьесе Чехов. Ведь в этих «мелких дрязгах» растворяется все чем одарили этих людей и предыдущие поколения, и все нравственные ценности, которые были завоеваны самими людьми.