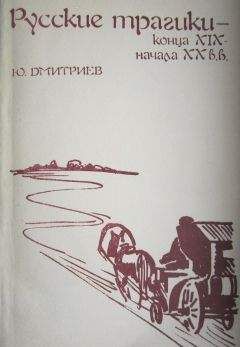Но далее следовало: «Я видел перед собою пассивного молодого человека, который что-то чувствует, что-то понимает, есть какие-то проблески в его душе, которые подходят к проблескам души Гамлета. Я видел у г. Россова какие-то намерения исполнить что-то хорошее, подсказанное ему собственной натурой. Но то, что называется искусством, гармонией, цельным созданием, характером, этого я совсем не видел. Такой неровной, неумелой игры я никогда еще не видел при исполнении Гамлета. У г. Россова нет даже умения управлять своими жестами, не говоря об умении управлять своими чувствами, своей дикцией, переходами от одного состояния в другое, своим лицом. Это мальчик, пишущий сочинение на тему, ему симпатичную… Что видится у Россова—Гамлета — это вспыльчивость — или, вернее, истеричность. В сильных душевных движениях, например в сцене во время представления пьесы и после нее, он просто плох. Сцена с матерью давала только проблески чувства, но. не более того»[312].
И пензенский рецензент, когда Россов во второй раз приехал в этот город, высказал примерно то же самое: «В его игре много души, искреннего молодого увлечения, но мало техники, его голос порой не слышен и пропадает, вследствие этого не слышны целые фразы, прекрасно в сущности произнесенные»[313].
Конечно, с годами Россов набирался опыта, действовал на сцене увереннее, познавал приемы, позволяющие держать внимание зрителей. Но главным свойством его искусства была искренность. И эта черта в условиях провинциального театра конца прошлого и начала нашего века, наряду с той вычурностью, наигрышем, метаниями, художественной дешевкой, какие отличали многих артистов, не могла не привлекать внимание, не нравиться. К его искренности следует прибавить интеллигентность, отсутствие напора, нажима, дешевки. Гамлет Россова был нежен и скорбен, он не рвал страсти в клочья, не завывал во время исполнения монологов. Но дилетантизм, отсутствие всякой школы не могли не сказываться на умении управлять своими чувствами, своим голосом.
Позже В. Э. Мейерхольд, который в юности восторгался Россовым, так высказался по его поводу: «Россов — это любитель, который прошел длинную театральную жизнь и так и не стал профессионалом… Россов был культурнее Орленева, но так и остался дилетантом, а Орленев был замечательным актером»[314].
Свой дилетантизм Россов возводил в принцип. Но это вовсе не означало, что он не обдумывал ролей, не заботился о глубине их понимания. Известная актриса Н. А. Смирнова рассказывала, что к ним в Бахмут на гастроли приехал Россов. «Играл он тоже не просто, как-то пел, но в его игре чувствовалась искренность: он любил своих героев, готовил роли по нескольку лет и мог объяснить все свои поступки на сцене, ничего не делая бессознательно. Его любовь к чистому искусству была трогательна, и сам он был чистый, светлый человек»[315].
Искренность, открытость сердца артиста были его самыми привлекательными качествами, они заставляли зрителей проявлять сочувствие к тем, кого он играл. Артист выходил на сцену для того, чтобы поделиться со зрителями своими раздумьями о жизни и смерти, добре и зле, коварстве и любви. Его занимали только глобальные, общечеловеческие проблемы. Поэтому он решительно отвергал современную драматургию, включая А. П. Чехова, М. Горького, Г. Ибсена. Пьесы современных авторов он не считал настоящим искусством. Только Шекспир, Шиллер, Грибоедов, в какой-то степени Дюма-отец, по мнению Россова, могли дать настоящее удовлетворение артисту, а значит, и зрителям. И только они достойны настоящего театра.
Но, обращаясь к Шекспиру и Шиллеру, Россов прежде всего заботился о том, чтобы показать героев их пьес в слабости, представить их жертвами обстоятельств.
Возьмем того же Гамлета. У В. А. Каратыгина это был принцу незаконно и незаслуженно лишенный престола, добивающийся теперь уничтожения узурпатора. Образ, созданный П. С. Мочаловым, был сложнее. Его Гамлет — воспитанник университета, сторонник гуманистических идеалов, присущих людям Возрождения. Он составил для себя идеальное представление о мире и людях. Но, вернувшись в Данию, столкнулся с предательством, развратом, лицемерием, жестокостью. Его идеальное представление о мире сталкивается с реальным миром зла. Пройдя через муки и страдания мочаловский Гамлет вступал с миром Клавдия, Полония, Гертруды, Гильденстерна и Розенкранца в жестокую борьбу, заканчивающуюся, как известно, трагически.
Совсем другим был Гамлет у Россова. Внешне привлекательный, миловидный юноша вглядывался в мир, видел его несправедливость и скорбел по этому поводу. Он проливал слезы но не стремился к тому, чтобы мир был исправлен. Его дуэль с Лаэртом являлась актом отчаяния. В результате россовский Гамлет приобретал черты сентиментальности, качества, шекспировскому герою вовсе не свойственного.
Известный советский театровед Н. Н. Чушкин, может быть, даже с излишней строгостью отчитал Россова за это. Он писал: «Все то, что делал в театре Россов, является не только нарушением, но искажением и оскорблением подлинных традиций русского искусства, для которого героическая тема всегда была органически связана с насущными вопросами общественной жизни». И далее: «Актер-компилятор Россов видел в романтическом театре средство ухода от действительности в мир вымысла и средство борьбы с реалистическим изображением жизни»[316].
С приведенными строками нельзя полностью согласиться. Россов вовсе не искал ухода от действительности, своими средствами он воспроизводил персонажей, признающих, что жизнь несправедлива, даже порочна, но не знающих, какой же следует искать выход в тех условиях, в каких они находятся, да и не представляющих себе, возможен ли этот выход. Да, жестокость, вероломство, беспринципность отвратительны, они унижают не только человека, но человечество в целом. Но как поступать, чтобы со всем этим покончить? На этот вопрос Россов, как и многие другие представители художественной интеллигенции начала XX века, не находил ответа. Отсюда проистекала растерянность перед существующими формами жизни, тот нравственный инфантилизм, который оказался свойствен некоторой части русского общества накануне Октября, и именно у этой его части Россов имел особый успех.
В 1903 году в Вильно его видит А. Я. Бруштейн, известная в будущем писательница. Сошлемся на ее воспоминания, они представляются нам важными.
Открылись гастроли, как это бывало почти всегда, «Гамлетом». На сцене появилась прекрасная стройная фигура. На красивом, но малоподвижном лице — глубокие задумчивые глаза. На голове — рыжевато-золотистый парик. Костюм традиционный — черно-траурный. Зрителей сразу поразила необычайная певучесть речи, какие-то неожиданные интонации. Далеко не все-знали, что в жизни Россов сильно заикался и на сцене при помощи такой речи избавлялся от этого недостатка.
В облике Гамлета—Россова было много женственного. «Возможно, в этой женственной мягкости видел Россов разгадку слабости несчастного Датского принца, остановившегося в нерешительности перед мщением за отца. Слова о страшном злодеянии: «Зачем же я рожден его исправить?» — звучали именно так. В них было отчаяние нежной, слабой души, чувствующей свое бессилие отомстить виновным и покарать их»[317].
Вообще в лирических местах, мягких, грустных, печально иронических Россов был сильнее всего. Таковы были сцены с Офелией, Горацио, отчасти с матерью. Однако лучше всего у него звучали монологи, когда он раздумывал о случившемся. С партнерами Россов общался как глухой: слушал и не слышал их. Они его мало интересовали. Он любил Офелию, но не ту, с которой играл, а какую-то другую, воображаемую. И так же любил Гертруду и ненавидел Клавдия: не тех, которых видели зрители, а других, представавших перед его мысленным взором. Он играл с партнерами и был одновременно как бы выключен из спектакля.
Гораздо хуже удавались артисту те эпизоды, в которых Гамлет испытывал сильные чувства: гнев, возмущение, ярость борьбы. «Все это казалось у него деланным, вымученным, нарочным до неловкости»[318]. Особенно деланным представлялся конец «Мышеловки». Король убегал, Гамлет—Россов оставался сидеть на полу. В нем не ощущалось ни торжества от сознания того, что преступник изобличен, ни ужаса от неизбежной теперь мести, ни отчаяния от того, что больше нельзя прятаться за сомнения, а необходимо действовать. Монолог «Оленя ранили стрелой» Россов произносил все так же сидя на полу, откинув назад корпус «и как-то странно двигая спиной и животом»[319].
Однажды Россова после спектакля в Вильно поклонники пошли провожать до гостиницы. Кто-то спросил его: «Неужели Вы никогда не играете в современных пьесах?»
Россов ответил твердо: «Нет. Никогда». И добавил: «Это меня не интересует».