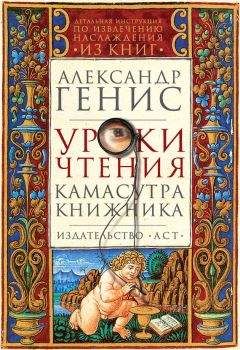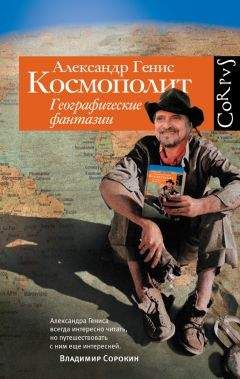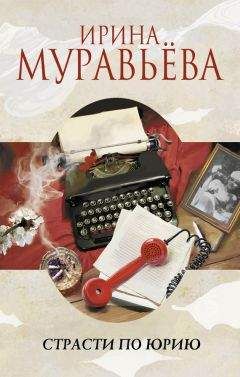Как стихи – языку, диссидентская литература обязана власти. И не абстрактной, на манер жестяной австро-венгерской машины Музиля и Кафки, а живой, полнокровной, омерзительной и своей: крысы в подполье. Достигнув полюса зла, словесность меняет слог, реальность – личность, как это случилось с Ходорковским – где еще умеют превращать миллионеров в героев? И все же власть тут пассивная, словно земное притяжение, сила. Важней не она, а он – автор. Хотя его часто называют “политическим”, диссидент не занимается политикой, он заменяет ее. Впрочем, хороший политик и должен быть дилетантом, как Гавел. На президентов не учат, профессиональный политик – это царь. Других ведет успех, судьба, безобразия власти и завидный опыт преодоленного страха.
Я знал многих известных диссидентов, с некоторыми крепко дружил и никогда не слышал, чтобы они жалели о прошлом, скорее уж – о настоящем. Не испытав, такого не понять, хоть я и старался.
– Стоять на перекличке, – рассказывал Гендлер о Мордовии, – было так холодно, что с тех пор я никогда не жалуюсь на жару. Но, глядя на солдата в тулупе, я знал, что ни за что бы с ним не поменялся.
Лучше других Гендлера понимал Довлатов, потому что сам был таким солдатом.
– За это его так любят, – съязвил Пахомов, – полстраны сидело, а пол – сажало.
Уникальность опыта выживания в такой стране объясняет, почему диссидентам всего труднее без нее обойтись на Западе. К тому же он всегда обманывает ожидания. Предупреждая об этом, Герцен писал, что мы с ним разминулись. Запад рыцарей умер вместе с Дон Кихотом, остался один Санча Панса, с которым нельзя найти общий язык и не хочется. Поэтому диссидент тут обречен жить, оглядываясь на тот Запад, который ему виделся с Востока. Град Китеж диссидентов, он существовал лишь для тех, кто в него верил.
Иначе и быть не могло, потому что Запад возникает как оппозиция Востоку. Запад – всегда для других, для себя он называется иначе, и для всех по-разному. Объединить – а значит создать – его может только компания единомышленников, без которых Запад вновь распадется на осколки, как разбитый калейдоскоп, которому я скрутил в детстве голову, чтобы добраться до запертых в ней цветов божественных оттенков.
Эпоха диссидентов, однако, кончается. Запад съедает Восток, словно лужа песок. Перестав быть вызовом и даже реальностью, Запад неопределим, как жизнь, и уже не требует веры, усилий, обид и сомнений. Он просто есть, и его становится все больше – хоть и жиже – с каждым “Старбаксом”.
Англичане считают свою литературу лучшей, потому что, как говорил Моэм, сравнивая с русской, у других она короче. И правда, в шекспировском веке отечественная словесность из всех авторов может похвастаться разве что Иваном Грозным. Зато обремененная тремя языками и осчастливленная тысячелетним багажом английская словесность наделяет всех: структуралисту – Лоренс Стерн, дамам – Джейн Остин, Сорокину – “1984”, мне – Шерлок Холмс.
Дав каждому, чего у него нет, себе англичане оставили любимую книгу трех последних поколений – “Винни-Пуха”. Даже не притворяясь, что читают ее детям, они придали книге Милна статус национального предания, которое, как ему и положено, отвечает на все вопросы бытия. Для непонятливых есть ученые схолии – “Дао Пуха” и “Дэ Пятачка”.
К несчастью, я об этом узнал на полвека позже, чем следовало. Советский ребенок и ел и читал только то, что доставали родители. Дефицит книг был обиднее продуктового. На не выработавшего иммунитет читателя обрушивалась череда “Моих первых книжек” под универсальным названием “Ленин и Жучка”. Хорошо еще, что оба не оставили следов, в отличие, скажем, от дореволюционных, и даже доисторического романа Рони-старшего “Борьба за огонь”. Эта книга разбудила во мне любовь – и к знанию, и вообще. Пещерный брак, говорилось там, преодолел естественное сопротивление самки и естественную лень самца. Ни тогда, ни сейчас я не понимал, что тут естественного, но фрейдисту Пахомову об этом не рассказываю.
Хуже, что мне не доставалось то, о чем я мечтал. Самой заветной была “Алиса в Стране чудес”, которая стояла под рукой, на нашей полке: тонкая, зеленая, с картинками, но на английском. Прочесть ее стало жгучей мечтой моего детства, но путь к цели пролегал через трехтомный британский самоучитель, который уже помог отцу познакомиться с Джеймсом Олдриджем в оригинале. Учеба, однако, шла туго: уроки были унылыми, герои – маньяками. Отличаясь истерическим вниманием к гигиене, они каждое утро принимали ванну (у нас она тоже была, но нагревалась балтийским торфом и всегда по пятницам). В оставшееся время они жевали овсянку и писали похожие на завещания письма, перечисляя в каждом предметы обстановки и состав гардероба.
Я терпел все ради “Алисы”, но когда наконец пришел ее час, чуть не расплакался. Мне не удалось перевести первый взятый на пробу стишок:
Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe[1].
Второй раз я читал “Алису” уже в Америке с комментариями математика, признавшего, что Кэрролл обогнал современную, не говоря уже о моей, науку. Утешившись, я взялся за книгу, с которой, собственно, и надо было начинать. “Винни-Пух” оказался и проще, и сложнее – как Пушкин. С ним тоже можно жить, но трудно толковать и нечего расшифровывать.
* * *
Обильная и витиеватая “Алиса” – продукт викторианской готики, влюбленной в историю. Умело обращаясь с прошлым, она его подделывала так успешно, что выходило лучше, чем в оригинале. Так появились фальшивые, но настоящие чудеса державной фантазии – Биг-Бен, Вестминстерский парламент, шотландская юбка и вымышленные ритуалы вроде юбилея королевского правления.
Впитавшая антикварный дух своего времени, “Алиса” насыщена историей, как вся Викторианская эпоха, высокомерно назвавшая себя суммой прошлого. Не зря уже в третьей главе вымокшие герои читают друг другу сухую историю:
Эдвин, граф Мерсии, и Моркар, граф Нортумбрии, поддержали Вильгельма Завоевателя, и даже Стиганд, архиепископ Кентерберийский, нашел это благоразумным…
“Винни-Пух” – антитеза “Алисы”. Спрямленный и ладный, ничего не торчит, все идет в дело и кажется молодым и новым. Это – ар-деко детской словесности. Понятно – почему. “Винни-Пух” – сказка потерянного поколения. Преданное прошлым, оно начинает там, где еще ничего не было. Мир Винни-Пуха – Эдем, а Кристофер Робин живет в нем Адамом. Он называет зверей, радуется их явлению и не нуждается в Еве, ибо теология Милна не знает греха и соблазна, а значит, не нуждается в оправдании зла – его здесь просто нет.
“Алиса” – по сравнению с “Винни-Пухом” – сплошное memento mori. Здесь съедают доверчивых устриц, пришедших послушать про королей и капусту, здесь макают несчастного соню в чайник, здесь всем обещают отрубить голову. Да и сама Алиса еще та змея, как сказала ей встречная птичка:
– Самая настоящая змея – вот ты кто! Ты мне еще скажешь, что ни разу не пробовала яиц.
– Нет, почему же, пробовала, – отвечала Алиса. – Девочки, знаете, тоже едят яйца.
– Не может быть, – сказала Горлица. – Но, если это так, тогда они тоже змеи!
Зато в “Винни-Пухе” зла нет вовсе. Его заменяет недоразумение, то есть неопознанное добро, добро в маске зла, принявшего его личину, чтобы оттенить благо и пропеть ему осанну. Вот так у Честертона, который и сам-то напоминал Винни-Пуха, террористы-анархисты оказываются переодетыми полицейскими, рыцарями добра и поэтами порядка. Мы это не сразу заметили, потому что всё видим со спины.
Тайна мира в том, что мы видим его только с обратной стороны. Все на свете прячет от нас свое лицо. Вот если бы мы смогли зайти спереди…
По-моему, это – очень английская идея. Тут придумали считать злодеев эксцентриками. Вспомним, что лучшие герои Шекспира – переодетые вроде принца Гарри, которому никакие грехи молодости не мешают оказаться Генрихом Пятым и одержать великую победу под Агинкуром. Но еще лучше этот прием представляет преданный королем Фальстаф. Демонстрируя изнанку пороков, он обращает их в добродетели.
Самые яркие персонажи в литературе, – говорил Довлатов, вспоминая Карамазовых, – неудавшиеся отрицательные герои.
Но если диалектика добра и зла у нас стала великой литературой, то в Англии – детской.
* * *
Плохие детские книжки пишутся так же, как взрослые бестселлеры: слова короткие, описаний минимум, портрет скупой, и никаких пейзажей – одно действие. Но в “Винни-Пухе” все не так. Слова, особенно те, которыми пользуется Сова, длинные, герои – выписаны, пейзаж – многозначительный, а сюжет – пустяковый. Как в “казаках-разбойниках”, он не исчерпывает содержание, а дает игре толчок и повод. Важнее не во что играют, а где – в лесу.