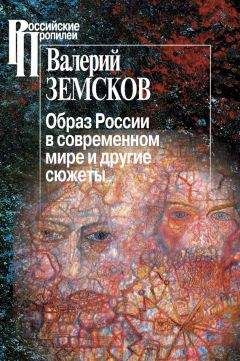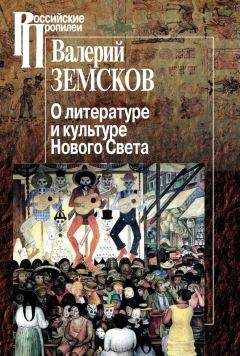Какой же выбор в этой ситуации? Как бы то ни было, наиболее широкое познавательное поле откроется, если сделать ставку не на какой-то один «идеальный конструкт», т. е. фактически избранный и привилегированный «смысл», а на образующую мировое единство серию основных культурно-цивилизационных «типов» или «смыслов», на изучение их взаимодействия и соотношения на всемирном поле. Соответственно, мы можем получить серию «больших историй», отражающих и воплощающих смыслы различных культурно-цивилизационных образований. Сегодня в условиях реальной культурной многополярности мира, противостоящей унифицирующей глобализации, нарастающего культурного многоязычия, к которому подключаются ранее молчавшие цивилизации, этот выход более предпочтительный. В третьем тысячелетии мир мыслит не только «левым» и «правым» полушариями (Запад – Восток), а их множеством.
Итак, второй вывод. Собственно «История» и «История литературы» – это часть культуры, часть цивилизационной парадигматики, причем часть активнейшая, изоморфно отражающая ее черты и влияющая на культуру, и только в таком качестве сегодня, думается, возможно обновление научного жанра, о котором идет речь. Для истолкования и реконструкции «Истории» сегодня невозможно оперировать только ранее открытыми «универсалиями», но нельзя их и отбросить. Здесь, очевидно, ситуация такая же, как и с проблемой соотношения чистых «архетипов» и «архетипов культурных», т. е. культурных инвариантов. Реальная культура в ее феноменологическом разнообразии оперирует не абстракциями, а множественностью локальных вариантов. Соответственно, не утрачивая горизонта общности и целостности, надо осваивать историю и историю культуры с помощью смысло-генетического подхода[131], вскрывать механизмы формирования множественных «картин мира», изучать генезис и развитие культурных кодов (концептов, констант, по Ю. С. Степанову), участвующих в создании культурного целого во взаимодействии с другими, «инаковыми» культурами. Принципиальный шаг на этом пути – осмысление «европеизма» как одной из моделей, важнейшей в истории мировой культуры, но все-таки одной среди прочих.
Такой представляется сегодня альтернатива нивелирующему формационно-структурному подходу, веберовскому произволу и постструктуралистскому нигилизму.
Ревизия теорий развития, категории процесса, разных составляющих этого многослойного понятия и особенно категории взаимодействия, выдвижения ее вперед как реального интегратора и регулятора локальных историй и истории мировой, изучение множественности и вариативности ее форм – все это необходимые шаги для обновления жанра «Истории».
Здесь сослужит службу и кризисный опыт, о котором говорилось, и современная культурология, в частности теория «пограничных» цивилизаций, теория культурно-цивилизационного лимитрофа, всех тех состояний и образований, где категория взаимодействия выдвигается как основная интерпретирующая сила. Иными словами, видимо, надо заново обратиться к построению паутины культурноисторических и литературных связей и взаимодействий, отдавая себе отчет: вся история культуры и вся история есть всемирное пограничье, в котором выделяются зоны особенно активного взаимодействия – там, где сложившиеся культуры выходят за пределы своего бытования и вступают в контакты с иными мирами. В этом-то в сущности и состоит вся история культуры. То, что издалека представляется целостным и однородным, на самом деле в свое время было полем взаимодействия разнородных начал. Как это происходит и сегодня.
Путь эстафетной линии развития человеческой культуры представляется ныне много сложнее и вариативнее, и для отрезвления нужно бы сделать упор на несходстве сходного. Ведь цель всякой «Истории» в конечном счете в том, чтобы показать многообразие и несхожесть культур и их открытий на общем пути.
Большие возможности для этого открывает общеакадемическая программа «Этнокультурные взаимодействия в Евразии» в своих различных направлениях. Она позволяет заново обратиться к первичным уровням культурогенеза, формирования культуропорождающих механизмов, форм взаимодействия, к начальной базе смыслообразования, а на этой основе вернуться к проблемам региональной и мировой типологии, увиденным сквозь призму межцивилизационных отношений и взаимодействий как основы мировой истории-культуры.
История литературы как жанр: от истоков к истокам?
История литературы – явление позднее, много моложе своей прародительницы – историографии как таковой. Но чтобы понять, что происходит и с той, и с другой дисциплиной на рубеже II–III тысячелетий, надо взглянуть на истоки историографии.
Протоисториография в единстве с преданием и мифологией, будучи простейшим коммуникационным актом сообщения о произошедшем («что случилось», «что было», «как и почему» и т. д.), имела в себе зародыши разных видов словесности, а затем стала выталкивать их из себя. И это был акт рождения историографии. Происходит это, когда античные историографы первыми начинают задумываться, как надо писать исторические сочинения.
Историография рождается в оппозиции к мифологии, стремясь к прагматико-рационалистическому сообщению и интерпретации произошедшего и происходящего.
Античные культуры Европы, в сравнении с другими, проделали «быстрый» путь к разложению изначального синкрезиса. В Древней Греции этот путь пролегал от мифоистории «Илиады» и «Одиссеи» Гомера через многочисленные сочинения так называемых логографов, в которых сочетались подлинные события, мифология, легенды, этнология, этнография, география. По мере рационализации знания главный разлом происходит по линиям дифференциации событийной истории, мифологии и вымышленных историй (художественной словесности). В «Риторике» Аристотель разделил «историческое» повествование и «вымышленное» повествование, а в «Поэтике» писал: «…задача поэта – говорить не о том, что было, а о том, что могло бы быть, будучи возможным в силу вероятности или необходимости. Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), – нет, они различаются тем, что один говорит о том, что было, а другой о том, что могло бы быть… поэзия больше говорит об общем, история – о единичном»[132]. Расцвет древнегреческой словесности (V–IV в. до н. э.), рождение классической трагедии, драмы сопровождались и рождением историографии, у начал которой стоял Геродот (ок. 484 – ок. 425 до н. э.). В «Изложении событий» (девять книг) он проследил историю борьбы древнегреческих городов и азиатской деспотии – историю Персидских войн.
Геродот отказался от традиционной мифологической экспозиции, хотя сохранил типичные для логографов этнологические описания (персов, вавилонян, скифов и др.). Плутарх, автор знаменитых «Сравнительных жизнеописаний», в которых переплелись история, художественный биографизм, бытописание и морализм, критиковал его, а Цицерон закрепил за Геродотом славу «Отца Истории», так как он считал своей главной задачей правдивое и полное изложение событий.
Вслед за ним Фукидид (ок. 460 – ок. 400 до н. э.) сделал другой важный шаг к профессиональной историографии, введя в свою «Историю Пелопоннесской войны» специальный экскурс об историческом методе и дискурсе (глава «О методах»). Главное для него – ценный фактический материал, социально-исторический контекст, максимальная достоверность. Он преодолел религиозно-мифологическую казуальность, объяснял историю политическими мотивами и уделял существенное внимание личностно-психологическому началу (в Новое время он послужил образцом английскому философу Томасу Гоббсу, немецким историкам Бартольду Георгу Нибуру и Леопольду фон Ранке).
Эта рационалистически-прагматическая методология получила развитие в Древнем Риме – у Полибия (ок. 200 – ок. 120 до н. э.), автора «Всеобщей истории» в сорока томах. Он заботился не о стиле, а об истине, насытил повествовательность аналитикой, его «История» содержит рассуждения о задачах, целях и методах историографии. Среди казуальных аспектов он выделял личность, географическую среду, судьбу – недаром его ценили Макиавелли, Монтескьё и др.
Но не следует преувеличивать степень спецификации историографического дискурса. Как покажет будущее, возможность выделения историографии из общего массива словесности была весьма сомнительной. «Идеальная» чистота историографического дискурса, как ни старались ранние ревнители, оказалась невозможной. Отделившись от мифологии, историография не смогла оторваться от художественной словесности и в изложении событий использовала сюжетные приемы «повествования вымышленного», драмы, трагедии, принципы расстановки и взаимодействия героя(ев) и других персонажей, личностно-психологические ресурсы. «Решающий шаг к драматизации история сделала», видимо, когда трагедия стала «сочиняться для чтения, а не для сцены»[133].