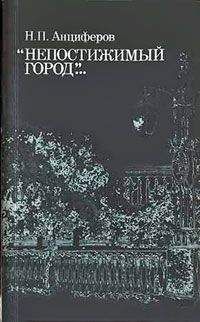Сжатые, мимолетные образы Петербурга рассеяны по всему полю творчества А. Блока. Их надо собрать воедино, но, оторванные от своего целого, посвященного другой задаче, они теряют значительную долю своего содержания. Однако все же сопоставление их дает некоторую возможность наметить образ Петербурга.
Слова А. Блока о нашем городе ложатся на его образ мягкими, прозрачными, трепетными тенями. Каким-то застенчивым призраком веет Петербург среди этих образов. Пусть остается он безымянным, пусть даже он превратится в город других мест, иных времен, какой-то обобщенный, отвлеченный, но как не узнать в нем Петербурга утонченного, болезненного; каменный город теряет свой вес, становится бесплотным духом, призраком.
«Конец улицы на краю города. Последние дома, обрываясь внезапно, открывают широкую перспективу: темный пустынный мост через большую реку.
По обеим сторонам моста дремлют тихие корабли с сигнальными огнями. За мостом тянется бесконечная, прямая, как стрелка, аллея, обрамленная цепочками фонарей и белыми от инея деревьями. В воздухе порхает и звездится снег».[420]
А. Блок знает свой город. Ему знакомы все часы годовых смен, и зимние снежные ночи, и бледные зори.
Все части города: его гавань, предместья, каналы, даже подступы к городу нашли отзвук в его стихах, обрели в его творчестве новую жизнь.
Петербург-порт получает неожиданное освещение. Дыхание моря наполняет город. «И в переулках пахнет морем».[421] Синяя даль, простор вод пробуждает тоску по далеким краям, романтическое томление. В сребристые розы тумана оделась тоска. In die Ferne![422] Но сирена, поющая в туманной дали, гибельна. «В путь роковой и бесцельный шумный зовет океан».[423] Снежная вьюга веет с моря. Постоянно эта тема сопутствует теме кораблей.
Опрокинуты в твердь
Станы снежных мачт.[424]
Над ними туча снеговая. Их путь оснеженный.
И на вьюжном море тонут корабли.[425]
Их облик какой-то обреченный. «Не надо кораблей из дали».[426] «Покинутые в дали».[427] «Невозвратные повернули корабли».[428] Море обрисовывается стихией не соединяющей, а разобщающей с чужими краями, оно словно прижимает Петербург к унылым берегам, кладя предел российским просторам. Петербург оказывается на краю земли у пределов неведомого.
Безотраден облик окраин.
«Заборы — как гроба. В канавах преет гниль… Все, все погребено в безлюдьи окаянном».[429]
Весной оживленье.
«Хохот. Всплески. Брызги. Фабричная гарь».[430]
Поют гудки.
«Ночь. Ледяная рябь канала. Аптека. Улица. Фонарь».[431]
Описания сжатые, почти перечисление одних предметов, даже без эпитетов. Речь тяжелая, обрывистая.
Нева у Блока суровая, жутко колышатся в ней «вечно холодные»,[432] «черные» воды, «сулящие забвенье навсегда».[433]
Воздух — полный пыли и копоти. «Лежит пластами пыль».[434]
«Встала улица, серым полна, заткалась паутинною пряжей».[435]
«Фабричная гарь».
«В высь изверженный дым застилает свет зари».[436]
Большие улицы, бесконечные проспекты с нитями фонарей, уходящих во мрак, полны вечерних содроганий.[437]
«Были улицы пьяны от криков, были солнца в сверканьи витрин».[438]
И потоки экипажей, и летящий мотор, поющий «снежной мгле победно и влюбленно» или «черный, тихий, как сова» пролетает он, «брызнув в ночь огнями».[439] Все эти образы сливаются в один.
Гулкий город, полный дрожи.[440]
На населении Петербурга лежит особая печать тревоги.
Внимание Блока обращено на униженных и оскорбленных, не тех, «чей самый сон проклятье»,[441] на согнутые тяжелой работой спины… на старух с клюкой, слепцов-нищих, детей покинутых, шарманщика хмурого, что плачет на дворе.[442] И много других видений «неживой столицы»: «исчезли спины, возникали лица»,[443] робкие, покорные. Все раздавленные колесами жизни, кто б они ни были: больные, уроды, все отдавшиеся хмелю страстей, с ними муза поэта Петербурга. И особенно с теми, кто раздавлен и нуждой своей, и страстями других.
Улица, улица…
Тени беззвучно спешащих
Тело продать,
И забвенье купить,
И опять погрузиться
В сонное озеро города — зимнего холода.[444]
И А. Блок поет хвалу всем опаленным, сметенным, сожженным. Перстень страданья связал им сердца. Город безысходного страданья, в который не придут корабли — вестники блаженной жизни.
Образ смерти гуляет по городу, смерти — освободительницы. То является она в голубую спаленку, в образе карлика маленького, что остановил часы жизни. «Карлик маленький держит маятник рукой».[445]
Или смерть — скелет, до глаз закутанный плащом, сует заветный пузырек venena[446] двум безносым женщинам…[447]
Мрачная бездна раскрывается зрячему взору, и есть упоение быть на ее краю.[448]
По улицам метель метет,
Свивается, шатается.
Мне кто-то руку подает
И кто-то улыбается.
Ведет — и вижу: глубина,
Гранитом темным сжатая.
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая.[449]
Город смерти — город сказки. Но сказка освобождает и от жизни и от смерти. Грани между плотью и духом, явью и сном, жизнью и смертью стерты в этом городе мистерий.
«Смерть, где твое жало»![450]
Пойми, уменьем умирать
Душа облагорожена.[451]
Какие же краски отмечает А. Блок в своем восприятии Петербурга? Краски, дающие выражение лику города. Он называет его черным.
Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты Младенца привела?[452]
Но подобно тому, как в белом цвете слита вся спектральная гамма, так здесь в этом черном заключены многие тона.
Два основных дают переливы души города.
Первый синий всех оттенков, переходящих в серый. Это основной фон Петербурга, «где почивает синий мрак».[453]
«Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали».
«И только в душе колыхнулась синяя города мгла».[454]
«Дымно-сизый туман».[455]
«Серо-каменное тело».[456]
«Прекрасно серое небо», «безнадежная серая даль».[457]
На мосту, вблизи дремлющих голубых кораблей, в голубых снегах является «Незнакомка», упавшая с неба «яркая и тяжелая звезда».
«Снег вечно юный одевает ее плечи, опушает стан. Она, как статуя, ждет. Такой же Голубой, как она, восходит на мост из темной аллеи. Так же в снегу, так же прекрасен. Он колеблется, как тихое, синее пламя… Закрутился голубоватый снежный столб, и кажется, на этом месте и не было никого».[458]
Целая поэма голубого цвета, и кажется, что самый Петербург, ставший призраком, колеблется, как тихое синее пламя.
Переливы серого и синего от светлых тонов, переходящих во мрак, — вот основной фон Петербурга.
Действительно — в туманах северной столицы всякий плотскими очами легко выделяет эти тона.
Но А. Блок не так разумеет цвет. По сине-серому тону прыгает зайчиком кроваво-красный цвет северных зорь.
Город в красные пределы
Мертвый лик свой обратил,
Серо-каменное тело
Кровью солнца окатил.
Все окропило хмельное солнце.
Красный дворник плещет ведра
С пьяно-алою водой.
Город наполняется жуткой фантастикой.
И на башне колокольной
В гулкий пляс и медный зык
Кажет колокол раздольный
Окровавленный язык.[459]
Этот красный цвет — красным пьяным карликом мелькает в сумраке умирающего дня среди образов смерти.
Пьяный красный карлик не дает проходу,
Пляшет, брызжет воду, платья мочит.
……………………………………………………
Карлик прыгнул в лужицу красным комочком,
Гонит струйку к струйке сморщенной рукой.
……………………………………………………
Красное солнце село за строенье.
(«Обман»)
А вверху — на уступе опасном
Тихо съежившись, карлик приник,
И казался нам знаменем красным
Распластавшийся в небе язык.[460]
(«В кабаках»)
……………………………………………………
…Кто-то небо запачкал в крови. Кто-то вывесил
красный фонарик…[461]
Но пурпуровый цвет не только мотив зловещего заката. Странным образом он рассеян в Петербурге повсюду, словно в Севилье или в Неаполе.