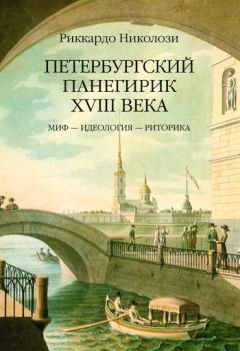Основными героями в нарисованной Щедриным истории дегенерации выступают Арина Петровна и Иудушка. Кажется, что Порфирий перверсивно пародирует манеру своей матери и ее властолюбие: Арина Петровна деспотично управляла имением. Позиция ее сына является пустой карикатурой, он компенсирует бессилие, представляя себя всемогущим в своих фантазиях [Ehre 1977: 6–7]. Очевидно, персонифицируя лицемерие, Иудушка выказывает также и другие стигматы вырождения: крайняя степень мистицизма, на самом деле являющимся скорее святошеством, чем набожностью (он очень хорошо держится, когда молится, но делает это только потому, что боится дьявола[37]); патологический эгоизм, который граничит с мегаломанией[38]; отсутствие сознания моральных законов, т. е. синдром «нравственного помешательства»: «<…> человек, лишенный всякого нравственного мерила» [XIII: 101], «полная свобода от каких-либо нравственных ограничений» [XIII: 104].
Важным элементом редукции и оптимизации натуралистических методов в романе является совпадение фактора наследственности и социального окружения. Одним из важнейших моментов в романе является слияние фактора семейного окружения, от которого никуда не деться, и биологической наследственности. Два этих фактора создают ваккумное детерминистическое пространство. Надаром фамилия и имение носят одинаковое название. Намеки на влияние окружающей среды касаются или исключительно семьи — она и есть та среда, — или методов воспитания, применяемых к молодому поколению Головлевых, навсегда сформировавших их личности[39]. Все, что происходит за пределами Головлево, кажется, не оказывает на героев никакого влияния. События, рассказывающие о промахах Головлевых в обществе, вне семьи, никогда не являются центральным объектом повествования и упоминаются лишь поверхностно. Действие романа разворачивается в трех имениях — Головлево, Дубровино и Погорелка, — которые из-за своей внешней схожести и из-за схожести происходящих в них событий сливаются в единое пространство. Пространственное ограничение действия придает фатальной безнадежности судьбы Головлевых клаустрофобический характер, еще более усиливающий узость и изолированность натуралистического пространства[40].
Головлево равно могиле, смерти, месту, куда каждый, кто пытался бежать, неизменно возвращается, чтобы закончить процесс вырождения и погибнуть. Возвращение Степана является образцовым: «Ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся, — и тогда все кончено» [XIII: 29]. Стоя перед домом он повторяет: «Гроб, гроб, гроб!» [XIII: 30]. На территории этого умерщвляющего места возможны только движения, приближающие героя к его концу. Физический упадок и психическое вырождение Арины Петровны совпадают с ее переездом из богатого Головлево в нищее село Погорелка: «<…> погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранною. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода приближалась дряхлость» [XIII: 98]. Усиливающаяся бедность, узость и ветхость жилых пространств, в которых приходится находиться Головлевым на последнем этапе их дегенерации, кажется тоже заражены и вырождаются вместе с героями. Степан, Арина и Порфирий доживают свои последние дни в грязных, душных, неубранных комнатах, в полной — желаемой или вынужденной — изоляции. Рассказчик использует одинаковые выражения для описания их медленной кончины.
Состояние усиливающейся изоляции и одиночества заставляет героев уменьшить их жилища, чтобы оказать сопротивление внешней пустоте. Таково состояние Арины Петровны после отъезда сирот: «С отъездом сирот погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. <…> Проводивши внучек, она, может быть, в первый раз почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты <…>, а для себя отделила всего две комнаты…» [XIII: 95]. Окружающие стараются также не выделятся и подстраиваются под общее состояние дегенерации. Из многочисленной прислуги в доме остались только две женщины монструозной внешности — старая, хромая ключница Афимьюшка и одноглазая солдатка Марковна. Взгляд из окна, бессмысленно и оцепенело направленный в пустоту и характеризующий последние дни Головлевых, не предполагает расширения пространства, так как описание сосредоточивается на темных осенних, давящих тучах. Так, например, описана «агония» Степана: «Безвыходно сидел он [Степка] у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. <…> серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в развернувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облоков» [XIII: 47].
С клаустрофобическим сужением пространства корреспондирует модификация времени, теряющего привычные координаты. Время перестает быть прогрессивным, превращаясь в бесформенное, неопределенное, неделимое: для Степана «потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени» [XIII: 31]. А также для его матери: «<…> для [Арины] не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить. <…> Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи» [XIII: 96; 106].
Все случившееся в семье распространяется на три поколения Головлевых и определено, так сказать, изначально, биологически. Мужья и жены членов семьи упоминаются лишь в двух словах[41]. Эти отношения извращены до крайности, их прогрессирующий распад контрастирует «положительным» высказываниям о семье со стороны Арины Петровны или Иудушки. Мать обращается в людоеда, пожирающего собственных детей: «Что, голубчик! Попался к ведьме в лапы! <…> съест, съест, съест!» [XIII: 31] — говорит, например, Владимир Михалыч своему сыну Степану после возвращения того в Головлево. «Ведьмой» он называет собственную жену. Библейская сцена возвращения блудного сына не раз используется в тексте (возвращение Степана и Пети). Разница заключается в том, что мать и отец не принимают своих детей. Результатом является смерть обоих сыновей [Kramer 1970: 458].
Биологическому взрослению детей Арины Петровны противостоит тот факт, что она никогда не считала их взрослыми: они навсегда остались для нее инфантильными. Размышляя о будущем Степана, Арина Петровна решает отправить его в закрытое воспитательное учреждение [XIII: 21]. На семейном суде Павел слушает мать подобно ребенку, слушающему сказку: «Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. <…> Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку» [XIII: 39]. Инфантильность, характеризующая всех детей Арины Петровны, особенно сильно выразилась у Порфирия в употреблении уменьшительно-ласкательных языковых форм: «Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько, и теплохонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцом, и с ромцом будем пить» [XIII: 108]. Инфантильность Порфирия со временем перерастает в инфантилизацию, т. е. начинается процесс обратного развития, когда мир фантазий заменяет собой реальность. Перверсия обычных внутрисемейных взаимоотношений достигает своего апогея в забытьи, разрушающим все связи: родители забывают о существовании детей. Так, Арина Петровна напрочь забыла, что в одной из комнат дома доживает свои последние дни ее сын Степан: «Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни» [XIII: 50][42].
Биологическая предрасположенность — основа головлевского вырождения — непреодолима. Родители не могут оставить детей, а дети не могут вырваться из ненавидимого ими Головлево. Как будто их притягивает зловещим магнитом к вынужденной пространственной близости — последней фазе вырождения. Особенно «удушлива» принудительная близость, возникающая между Порфирием и другими членами семьи. Лицемерными, досаждающими разговорами, сравниваемыми с гноящейся раной[43], он сплетает вокруг своих близких плотную коммуникативную сеть, из которой нельзя выпутаться.