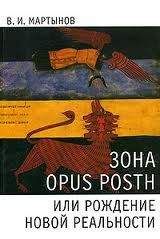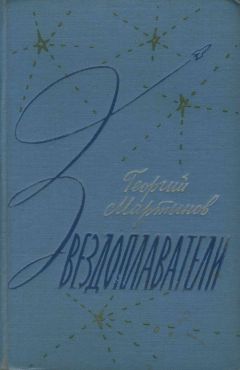Хотя публикация и есть способ существования произведения — opus’a, в то же самое время публикация есть и нечто внешнее по отнешению к произведению, ибо публикация может быть истолкована как ряд неких манипуляций, выводящих произведение в реальность публичного существования. И здесь мы присутствуем при возникновении нового пространства — пространства манипуляций, или пространств производства и потребления, которое образуется вокруг произведений opus’a. Для того чтобы быть реализованным, пространство произведний–opus’oв, или пространство искусства, нуждается в пространств производства и потребления, которое может быть представлено целым рядом институтов и организаций — это и учебные заведения, и Филармонии, и концертные агентства, и рекламные бюро, и издательства, и пресса, и критика, и публика, и многое, многое другое. Конечно же все это появляется далеко не сразу, и в самом начале своего существования пространство производства и потребления играет достаточно незаметную, подсобную и факультативную роль по отношению к пространству искусства. Но по мере становления пространства искусства усиливается и роль пространства производства и потребления. Это проявляется в том, что произведение–opus’ов постепенно теряет самодовлеющее значение и превращается в объект производственно–потребительских манипуляций. Из сказанного вовсе не следует заключение, что пространство производства и потребления «съедает» пространство искусства или что пространство искусства вытесняется пространством производства и потребления как некоей внеположной силой — на самом деле все обстоит гораздо сложнее. К тому же в самом пространстве искусства изначально заложены механизмы, приводящие его к неизбежному концу, — и об этом мы будем говорить в своем месте. Но как бы то ни было, пространство производства и потребления приходит на смену пространству искусства, и эта смена становится одним из важнейших событий истории новейшего времени.
Когда мы говорим о том, что произведение постепенно теряет самодовлеющее значение и превращается в объект производственно–потребительских манипуляций, то попадаем в самую суть процесса смены пространства искусства пространством производства и потребления. Но в чем же конкретно проявляется утрата произведением–opus’ом некогда присущего ему самодовлеющего значения? Это проявляется в том, что произведение перестает быть тем, чем оно являлось в пространстве искусства, оно перестает быть способным представлять, выражать или изображать некую внеположную ему реальность. Произведение начинает цениться и быть значимым не потому, что оно представляет некую реальность, а потому, что оно обозначает место, занимаемое им среди Других произведений–opus’ов, образующих систему производства и потребления. Другими словами, из реальной вещи, вызывающей переживание, произведение–opus превращается в некую функцию производственно–потребительских манипуляций, и теперь гораздо уместнее говорить не о конкретном произведении, но о художественном жесте, о художественной стратегии или о культурной политике.
Фундаментальное изменение статуса произведения–орus’а связано с появлением нового типа человека: на смену человеку переживающему приходит человек манипулирующий, основополагающим модусом существования которого является уже не способность переживать, но способность манипулировать. Став основополагающим свойством нового человека, манипулирование, по словам Хайдеггера, «развертывает полностью заорганизованный порядок и обеспечение всевозможного планирования в каждой сфере, в круге (в плане) этих сфер отдельные области человеческого оснащения (вооруженности) становятся «секторами»; «сектор» поэзии, «сектор» культуры теперь тоже суть лишь планомерно организуемые участки той или иной «руководящей деятельности» наряду с другими»[2]. Сказанное отнюдь не означает того, что современный человек лишен способности переживать. Конечно же, переживание по–прежнему будет оставаться неотъемлемым свойством человеческой природы, но отныне, говоря словами Гегеля, переживание перестает быть тем способом, в котором истина обретает свое существование. Переживание становится значимым только в той мере, в которой оно являет себя как «сектор» или как участок той или иной планируемой деятельности. Подобно этому и произведение–opus’ обретает смысл не потому, что вызывает переживания и выражает что–то, но потому, что оно обозначает свою причастность к данному участку и свое присутствие в данном секторе «заорганизованного порядка и обеспечения». Другими словами, произведение–opus нового типа не« выражает что–то, но обозначает то, что здесь имеет место выражение чего–то, а это значит, что в произведении становится значимым не его, художественная ценность, но обозначение причастности данного произведения к сфере художественных ценностей. ]
Подобно тому, как разрыв с принципом онтологического пребывания и утверждение принципа выражения знаменовали собой переход от сакрального пространства к пространству искусства, так и разрыв с принципом выражения и утверждение принципа обозначения причастности к сфере художественных ценностей знаменуют собой переход от пространства искусства к пространству производства и потребления. Однако этот переход в своей сути остается практически незамеченным. Как современные создатели произведений, так и их исполнители и потребители ощущают себя целиком и полностью пребывающими в пространстве искусства. Это нечувствие и это непонимание произошедшей перемены есть одно из необходимых условий существования пространства производства и потребления, которое может существовать только постольку, поскольку симулирует собой пространство искусств и создает иллюзию существования искусства в сознании человек манипулирующего. Таким образом, симуляция становится фундаментальным принципом пространства производства и потребления, в результате чего произведения, образующие это пространство, перестают уже быть произведениями в полном смысле этого слова и превращаются в симулякры, берущие на себя функцию, которую раньше выполняли произведения искусства.
Симулякр как принцип симуляции произведения искусства подразумевает не только момент симуляции, но также и тот факт, что произведение искусства невозможно как таковое, из–за чего и возникает необходимость в его симуляции. Предчувствие того, что абсолютность художественного принципа, т. е. принципа выражения и переживания, может быть поставлена под вопрос, возникло еще в XIX веке. В одном из своих стихотворений Тютчев восклицал: «…и это пережить… И сердце на клочки не разорвалось…» — тем самым указывая на то, что не всякое явление может быть вмещено в рамки выражения и переживания. Однако тогда, в XIX веке, сердце на клочки еще не разорвалось, и потому предчувствие возможности такого сердечного разрыва еще могло превратиться в предмет художественной рефлексии и художественного воплощения. Предметом же искусства в XX веке становится именно сам момент разрыва сердца, и если сердце является источником переживания и выражения, то разрывающееся сердце делает невозможным ни то ни другое. Здесь может иметь место только документация травм и шоков, о которых писал Адорно в связи с атональным периодом творчества Шенберга. Но подобная документация создает целый ряд проблем на пути создания произведения. Более того, она ставит под вопрос саму идею произведения искусства. Именно это имелось в виду, когда выше мы говорили о том, что переживание перестает быть тем способом, в котором истина обретает свое существование, и именно это позволяет констатировать смерть самого принципа художественного выражения и переживания. Вместе с тем смерть принципа художественного выражения и переживания парадоксальным образом является единственным живым и реальным фактом в пространстве окружающих нас симулякров, и именно осознание этого факта, как ни странно, может стать объектом принципиально нового художественного выражения и переживания, превратившись в стимул создания новых произведений–opus’ов и новой музыки.
Конечно же, эта музыка будет музыкой особого рода. Это будет уже не opus–музыка, но opus posth–музыка, т. е. музыка, возникающая в результате осознанного выражения факта смерти opus–музыки. «Сочинение музыки в наши дни есть гальванизация трупа», — эти слова Валентина Сильвестрова проливают свет на природу opus posth–музыки и могут служить эпиграфом к ней. Его «Тихие песни», которые могут быть рассматриваемы нак одно из наиболее ранних проявлений opus posth–музыки, представляет собой последовательность симулякров, но симулякров особого рода — симулякров осознанных и в силу этой осознанности превратившихся в факты подлинного искусства. Такие же симулякры, посредством особых процедур превратившиеся в факты искусства или, лучше сказать, постискусства, мы можем встретить у А. Пярта, А. Рабиновича, Г. Пелециса и еще целого ряда композиторов, музыку которых можно квалифицировать как opus posth–музыку и на примере которых можно убедиться, что последней реальной темой живого подлинного искусства может быть только смерть opus–музыки, смерть самого искусства. Музыканты, не осознавшие этого факта, не способны ни на что подлинно живое, они способны только на создание безжизненных симулякров, эксплуатирующих разлагающийся принцип переживания и образующих музыкальное пространство производства и потребления, в котором, говоря евангельскими словами, мертвые погребают своих мертвецов.