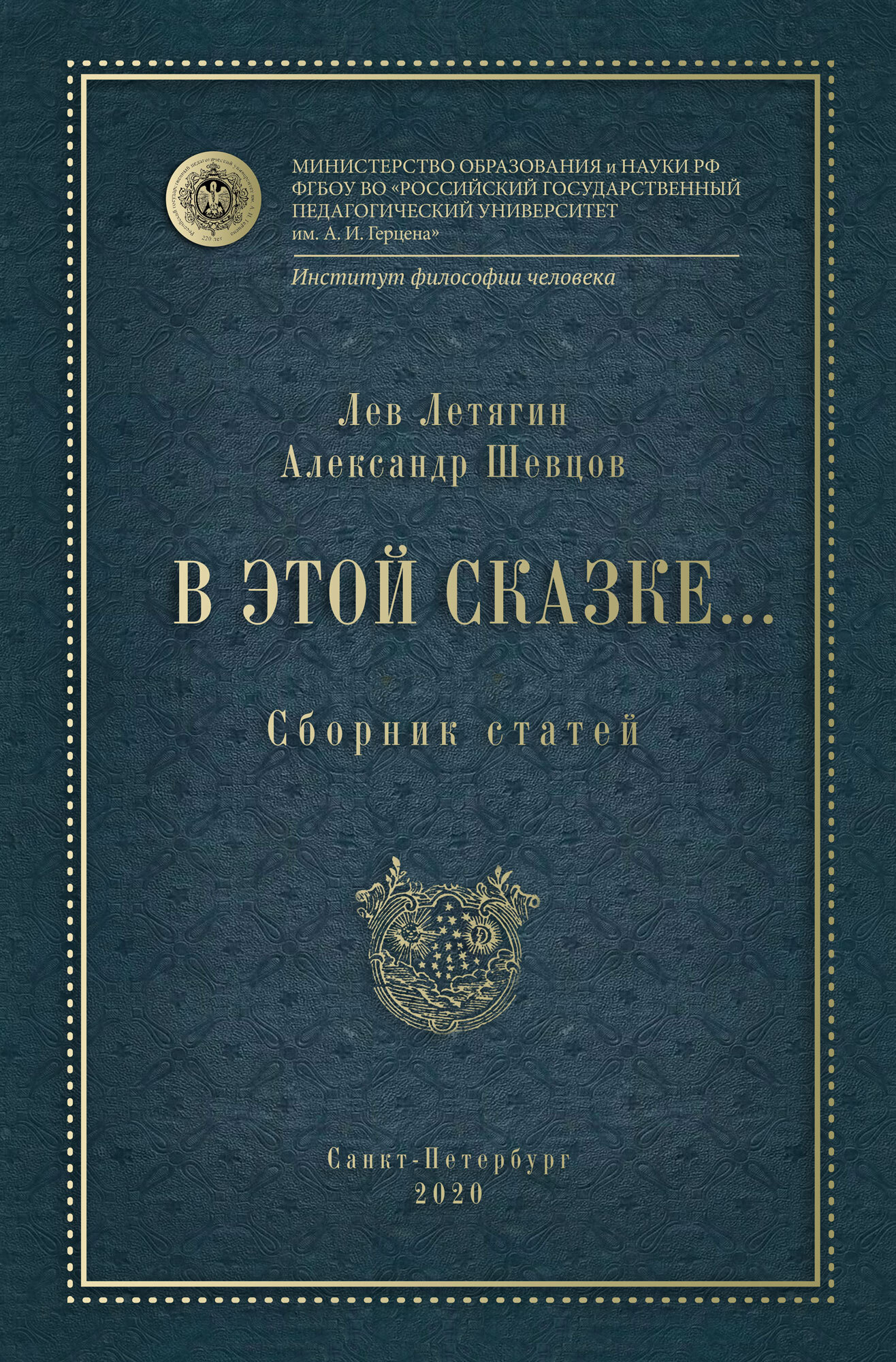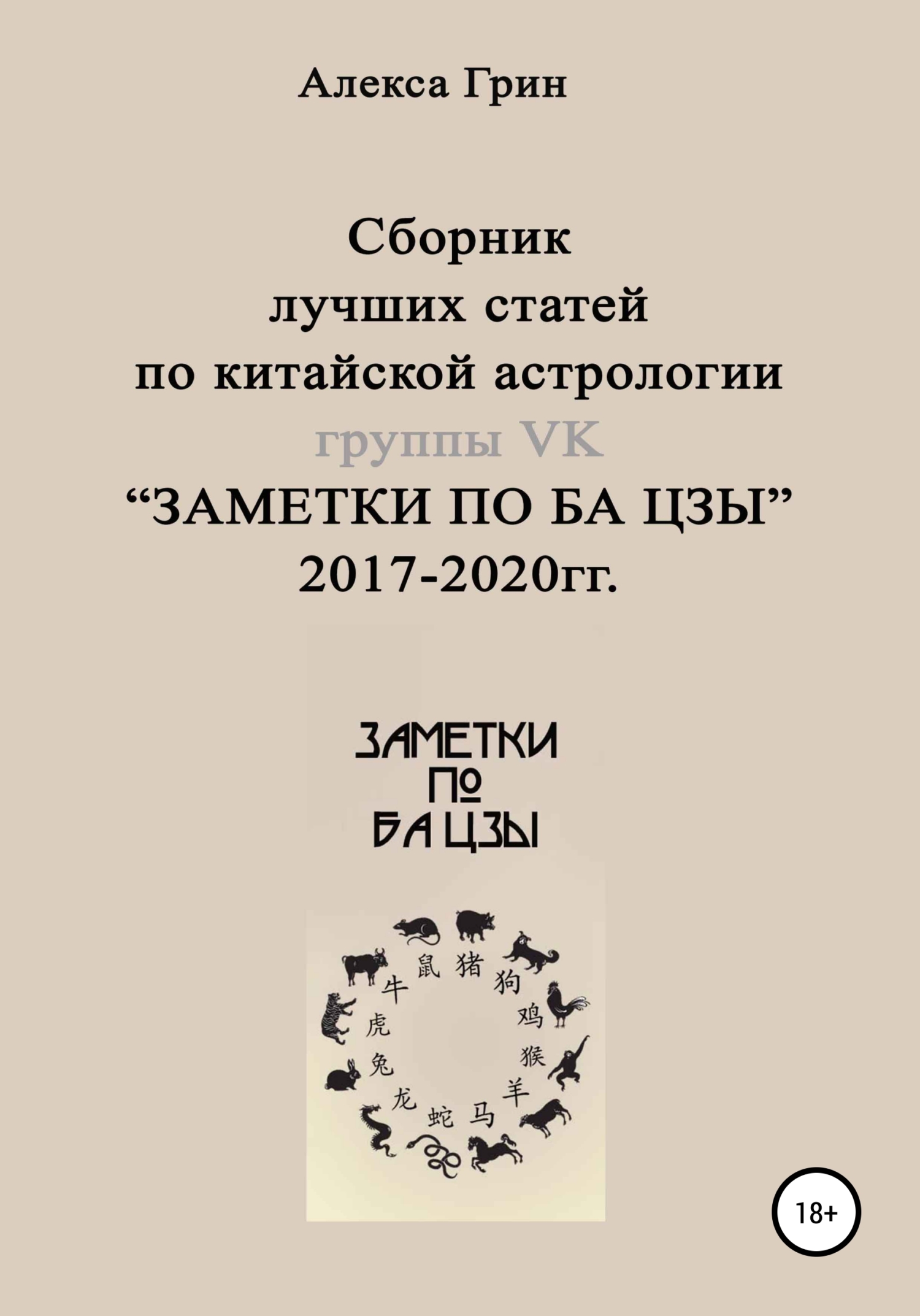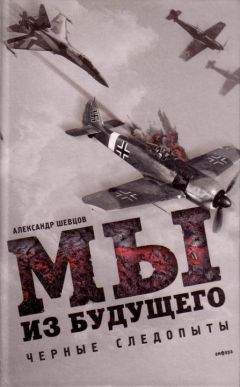историю государства в историю села», – отмечает А. Долинин (
24, с. 241).
Теряющаяся в далеком прошлом «сельская хроника» – это мыслимое в «подсознании народной толщи» Иное царство, чаемое возвращение к архаичным и благодатным временам, «когда реки текли молочные, берега были кисельные, а по полям летали жареные куропатки, в то время жилбыл царь по имени Горох…» (7, с. 195). А. Ахматова говорила об устойчивости образных аллюзий и «мистической памяти» поэта. Все, что Пушкин хотел сказать об одной «отдельно взятой» деревне, в полной мере отражает эпиграф к II главе «Онегина»: «O rus! О Русь!». При всей неоднозначности интерпретации здесь важно видеть емкое смысловое обобщение (15).
«В чем заключается жизнь человека, если память о протекших временах не связывает настоящего с прошлым?», – цитирует Чаадаев мысль Цицерона в первом «философическом письме». С рукописью письма Пушкин познакомился летом 1830 года, в июне, т. е. до отъезда в Болдино, где начинает работу над «Историей Горюхина». В уподоблении Большой Истории хронике одного села можно видеть только начальный и самый непосредственный по стилю подступ к «связыванию времен». Укрывшись за литературную неопытность Ивана Белкина, Пушкин от его имени готовил ответ на мысль Чаадаева: «ни пленительных воспоминаний, ни грациозных образов в памяти народа, ни мощных поучений в его предании».
Вполне определенно возражения Пушкина будут высказаны позже – в знаменитом письме Чаадаеву 1836 года, после «скандальной» публикации в «Телескопе». По точности формулировок этот ответ приобретал смысл политического документа: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться».
По мнению Пушкина, отечественная история, как предмет не вполне еще проясненный, может поразить взгляд «будущего историка». Принципиальный диалог с Чаадаевым предполагал не отдельные критические замечания, а убедительную и выстроенную систему аргументации. Для этого требовалась профессиональная точка обзора. Пушкину были нужны архивы. В не отосланном адресату письме, как и незавершенном замысле «Истории Горюхина», оказались обозначены только основные контуры пушкинской историософской концепции.
Летом 1831 года у поэта находились «для прочтения» 6-е и 7-е «философические письма», переданные ему Чаадаевым перед отъездом поэта из Москвы. Несмотря на настойчивые просьбы о возвращении, рукопись «писем», ссылаясь на холерные карантины, Пушкин явно не торопился отдавать. С их содержанием он знакомит Жуковского, о чем тот напишет А. И. Тургеневу. Концептуальным представляется 6 письмо, отразившее взгляды Чаадаева на философию истории. Важно отметить, что именно этот текст летом 1831 г., т. е. в период работы Пушкина над «Сказкой о Салтане», оставался в поле его читательского интереса.
Для Пушкина народная сказка – не только народное предание. Оставаясь частью национальной памяти, она являет собою факт отечественной истории. Вместе с тем в «Сказке о царе Салтане» можно видеть целый комплекс самостоятельных тем и сюжетов, находившихся с середины 20-х годов в поле творческого и исследовательского интереса поэта. Значимой в контексте 1830-х годов представляется не только связь «Истории Горюхина» с циклом «Повестей Белкина», но и работой Пушкина над его сказками. Это, в частности, отметит А. Герцен в статье «Русский народ и социализм», для которого сюжетная линия «Сказки о Салтане» послужит аргументом емкого обобщения: «в этой сказке, милостивый государь, вся наша история» (подробнее: 18, с. 363–364). Через три года после кончины няни, вспоминая образы собственного детства и отдавая невольный долг благодарной памяти, Пушкин начинает работу над сказками. Вступая в невольное профессиональное соревнование с писателями-современниками (31), он вряд ли старался конкурировать со своей няней Ариной Родионовной, оставаясь «угадчиком ее души, смиренным записывателем ее рассказов» (В. Розанов). В не меньшей степени, однако, в работе над сказками определялась степень его собственной творческой свободы. Позиция Пушкина-историка выходила за рамки фольклорного восприятия национального прошлого. Именно поэтому в его сказках важно видеть нечто большее, чем факт истории отечественной литературы.
Лето, когда Пушкиным были написаны «Бородинская годовщина», «Клеветникам России», отредактированы «Маленькие трагедии» и «Повести Белкина», подготовлен к изданию 3 том собрания сочинений, опубликованы полдесятка критических статей и разборов, не принято сравнивать с Болдинской осенью предшествующего года. Вместе с тем, несомненно, это был один из наиболее продуктивных творческих периодов в биографии поэта. В доме Китаевой, на бывшей Колпинской улице, об этом осталось лаконичное напоминание:
«Здесь жил Пушкин в 1831 году»
* * *
Предлагаемая вдумчивому читателю книга Александра Шевцова будет интересна не только как многолетний опыт авторского постижения философии сказки.
Поэт Михаил Светлов не без иронии, но вполне глубокомысленно утверждал, что все мы дети, только разного возраста. Информационная эпоха кардинально изменила как представление о человеке, так и сам тип современной личности.
Gadget и device стали обиходными вещами, и цивилизационные преимущества «устройств» и «приспособлений» существенно понизили актуальность столь значимых прежде понятий, как «способ» или «способность». Речь не только о клиповом сознании и изменении стиля мышления, а о перспективе сохранения интеллектуального языка.
Что «Homo Informaticus» способен обрести в диалоге с мировым наследием, когда перед ним стоят узко сформулированные функциональные задачи? В повседневном сознании почти утвердилась точка зрения на безграничность возможностей информационного пространства: «что есть в Интернете – есть в культуре, чего там найти нельзя – этого в культуре нет». Мысль о том, что духовность – понятие, которое не может быть виртуальным, в такой ситуации представляется беспомощной и наивной.
Вопрос о культурном статусе сказки как универсального по своей природе жанра оказывается актуализирован в переходные моменты истории, на «сломе» мировоззрений. Именно как «неумирающая ценность человеческой жизни» (Е. Трубецкой) сказка всякий раз оказывается в центре профессионального интереса (37; 39).
«Зачем нам отставать от поэзии бабушкиных сказок», – задавался непраздной мыслью П. Вяземский. Проблема культурной идентичности, столь часто сегодня обсуждаемая, определяется глубиной национальной памяти – ответом на вопрос не «кто мы», а «откуда мы». Можно ли воспринимать сказку как антропологический «ответ» на вызовы активно оцифровываемой реальности? Сказочные образы не имеют временнóго измерения – это «вечное настоящее» при каждом новом обращении. Моральные ценности сказки не сводятся к «контенту», однако каждая рассказанная ребенку сказка может рассматриваться как «инвестирование» в его будущее.
Насколько сегодня возможен «возврат к Пушкину», его сказкам, о чем сто лет назад задумывался Василий Розанов: «студент ни за что их не возьмет в руки по «превосходительной учености»; «Петя 11 лет» ни за что не отыщет в десяти толстых томах, с грудами примечаний и вообще ученой работы, «своей дорогой сказочки» о царе Салтане…» (47, с. 372). Поэтика сказки многослойна, здесь важно дотянуться не до книжной полки, а до смысла прочитанного. А потому совсем не наивной представляется мысль В. Розанова, чтобы Пушкин «вошел другом