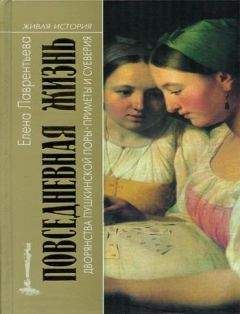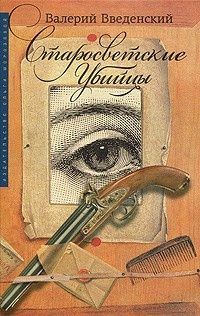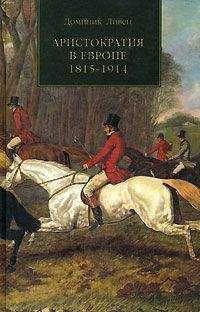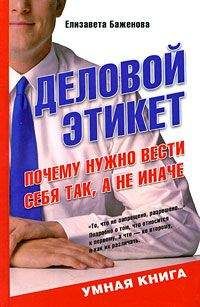«Для хорошего приему гостей надобно иметь отличный вкус, тонкость, много опытности в светском обращении, большое равенство в характере, спокойствие и услужливость», — читаем в «Правилах светского обхождения о вежливости». Дополним это правило высказываниями писателей: «Не жалеть денег на праздник еще ничего не значит. В звании, в обязанностях гостеприимной хозяйки дома есть, без сомнения, своя доля художества…»{22}. «Хороший хозяин должен быть движим своим гостеприимством во все стороны, как непостоянство, должен светить одинаково для всех, как солнце, должен быть рабом прихоти гостей своих, должен быть учтив, как лесть, говорить, как стоустая молва, приветлив, как любовник, терпелив, как муж»{23}.
Забавны анекдоты о хозяевах, изо всех сил желающих прослыть любезными и приятными, которые рассказывает в «Старой записной книжке» П. А. Вяземский.
«Галкин, добрый, но весьма простой человек, желает прослыть приятным хозяином — и для того самым странным образом угощает гостей своих. Например, не умея с ними разговаривать, он наблюдает за каждым их движением: примечает ли, что один из присутствующих желал бы кашлянуть, но не смеет, опасаясь помешать поющей тут даме, — и тотчас начинает, хотя и принужденно, кашлять громко и долго, дабы подать собою пример; видит ли, что некто, уронив шляпу, очень от того покраснел, и тотчас сам роняет стол; потом подходит с торжественным видом к тому человеку, для которого испугал все общество стукотнёю, и говорит ему: "Видите ли, что со мною случилась еще большая беда?" Но часто он ошибается в своих наблюдениях. Например, вчерашний вечер, когда мы все сидели в кружке, он вздумал, не знаю почему, что мне хочется встать, и тут же отодвинул стул свой; но видя, что я не встаю, садился и вставал по крайней мере двадцать раз, и все понапрасну. И я нынче услышал от одного моего приятеля, что он, говоря обо мне, сказал: "Он добрый малый; но, сказать между нами, уж слишком скромен и стыдлив"»{24}.
«Дмитриев — беспощадный подглядатай (почему не вывести этого слова из соглядатай?) и ловец всего смешного. Своими заметками делится он охотно с приятелями. Строгая физиономия его придает особое выражение и, так сказать, пряность малейшим чертам мастерского рассказа его. Однажды заехал он к больному и любезному нашему Василию Львовичу Пушкину. У него застал он провинциала. Разговор со мною, говорит он, обратился, разумеется, на литературу. Провинциал молчал. Пушкин, совестясь, что гость его остается как бы забытый, вдруг выпучил глаза на него и спрашивает: "А почем теперь овес?" Тут же обернулся он ко мне и, глядя на меня, хотел как будто сказать: не правда ли, что я находчив и, как хозяин, умею приноровить к каждому речь свою?»{25}.
«Карамзин рассказывал, что кто-то из мало знакомых ему людей позвал его к себе обедать. Он явился на приглашение. Хозяин и хозяйка приняли его очень вежливо и почтительно и тотчас же сами вышли из комнаты, где оставили его одного. В комнате на столе лежало несколько книг. Спустя 10 минут или 1/4 часа, являются хозяева, приходят и просят его в столовую. Удивленный таким приемом Карамзин спрашивает их, зачем они оставили его? "Помилуйте, мы знаем, что вы любите заниматься и не хотели помешать вам в чтении, нарочно приготовили для вас несколько книг"»{26}.
В мемуарной литературе встречается немало примеров крайне деликатного отношения хозяев к гостям.
«Чувство деликатности в отношениях с людьми развито было у Туркула в высшей степени, — рассказывает О. А Пржецлавский о статс-секретаре царства Польского Игнатии Туркуле. — В тридцатых годах жил в Петербурге граф Фредро, бывший гвардейский офицер, имевший какое-то придворное звание, женатый на графине Головиной. Он часто заезжал по утрам к Туркулу в канцелярию в доме Мижуева, у Симеоновского моста. В одно утро, когда, побеседовав, граф простился и уходил, Туркул, как вежливый хозяин, провожал. Отворяя дверь в переднюю, начались церемонии; гость не пускал далее Туркула и, вошедши в переднюю, сильно захлопнул за собою дверь, но как провожавший держался за нее, то прищемил ему конец указательного пальца правой руки и буквально раздавил его. Несмотря на жестокую боль, Туркул имел настолько самообладания, что не испустил ни малейшего крика, и граф уехал, не знавши, что наделал своими церемониями. Тут же, еще весь дрожащий от боли, Туркул взял со всех нас обещание, что никто ничего Фредру не скажет. Палец страшно разболелся, вся рука распухла; послали за Арндтом, а государь, узнав о случившемся, прислал лейб-хирурга Тарасова. Больной с рукою, вздернутой кверху в компрессах, мучился невыразимо; он семеро суток пролежал без сна, не мог сделать ни малейшего движения. Наконец, Арндт, признав, что время пришло, не предупредив больного и делая вид, будто осматривает палец, взял его в руки и одним разом оторвал поврежденный конечный сустав. Туркул скоро выздоровел. С тех пор он носил искусственный конец пальца, привязанный к руке, мог свободно писать, но должен был отказаться от одного из любимых своих развлечений, игры на фортепьяно. Для Фредра он выдумал какую-то сказку, хотя рассказывал, что во время болезни вид графа был для него страшною пыткою; он потрясал всю нервную систему и усиливал страдания. А тот, как бы нарочно, считал своим долгом навещать больного каждый день, просиживать целые часы и развлекать его нескончаемыми разговорами. И Туркул ни разу не решился отказать ему, не показал ни малейшим знаком, как тяжелы для него эти визиты, и с приятною миною поддерживал беседу и благодарил за посещение. Он это делал, боясь, чтобы Фредро не догадался. Граф так и умер, не подозревая, что он причинил приятелю такую муку»{27}.
О деликатном отношении хозяев к гостю, который нарушил все правила светского приличия, рассказывает А. М. Фадеев:
«В Екатеринославе он (А. С. Пушкин. — Е.Л.), конечно, познакомился с губернатором Шемиотом, который однажды пригласил его на обед. Приглашены были и другие лица, дамы, в числе их моя жена. Я сам находился в разъездах. Это происходило летом, в самую жаркую пору. Собрались гости, явился Пушкин, с первых же минут своего появления привел все общество в большое замешательство необыкновенной эксцентричностью своего костюма: он был в кисейных панталонах!
В кисейных, легких, прозрачных панталонах, без всякого исподнего белья. Жена губернатора, г-жа Шемиот, рожденная княжна Гедрович, старая приятельница матери моей жены, чрезвычайно близорукая, одна не замечала этой странности. Здесь же присутствовали три дочери ее, молодые девушки. Жена моя потихоньку посоветовала ей удалить барышень из гостиной, объяснив необходимость этого удаления. Г-жа Шемиот, не доверяя ей, не допуская возможности такого неприличия, уверяла, что у Пушкина просто летние панталоны бланжевого, телесного цвета; наконец, вооружившись лорнетом, она удостоверилась в горькой истине и немедленно выпроводила дочерей из комнаты. Тем и ограничилась вся демонстрация, хотя все были возмущены и сконфужены, но старались сделать вид, будто ничего не замечают. Хозяева промолчали, и Пушкину его проделка сошла благополучно»{28}.
Хозяева должны сохранять невозмутимость, если даже они сердиты на гостя. «Есть люди, которые не умеют скрыть своего неудовольствия и даже иногда делают выговор своему гостю, если он сломает ножку стула, разобьет стакан и т. п., доказывая этим свою скупость и неумение жить в свете, они поступают против правил общежития и приличия»{29}.
«Про одного знатока людей рассказывают нижеследующий анекдот: он любил узнавать характер дома и в особенности выдержанность хозяйки и делал это следующим путем: он с намерением проливал красное вино, но если эффект был недостаточно силен, то он приступал к более сильным мерам, он обыкновенно прокалывал салфетку вилкой и при этом испытании большинство хозяек теряло присутствие духа и должное хладнокровие по отношению к виновнику»{30}.
Подобным образом вел себя «порядочно устарелый, обрюзгший» С. А. Соболевский, в молодости близкий друг А. С. Пушкина. Н. Берг рассказывает о посещении им салона Е. Ростопчиной. «Он резко отделялся от всего, что у ней собиралось из молодежи, манерою говорить обо всем небрежно, презрительно, с какою-то вечною ядовитою усмешкою; так же небрежно и презрительно разваливаться в креслах (как никто из гостей Ростопчиной не разваливался); однажды он даже так развалился, что сломал ручку кресла, которая упала на пол, и при этом сказал самодовольным тоном: "Какая еще сила! Не могу сесть на кресла, чтобы их не сломать!"»{31}.
Графиня Ростопчина, по всей видимости, была невозмутима, раз о ее реакции мемуарист не обмолвился ни словом.