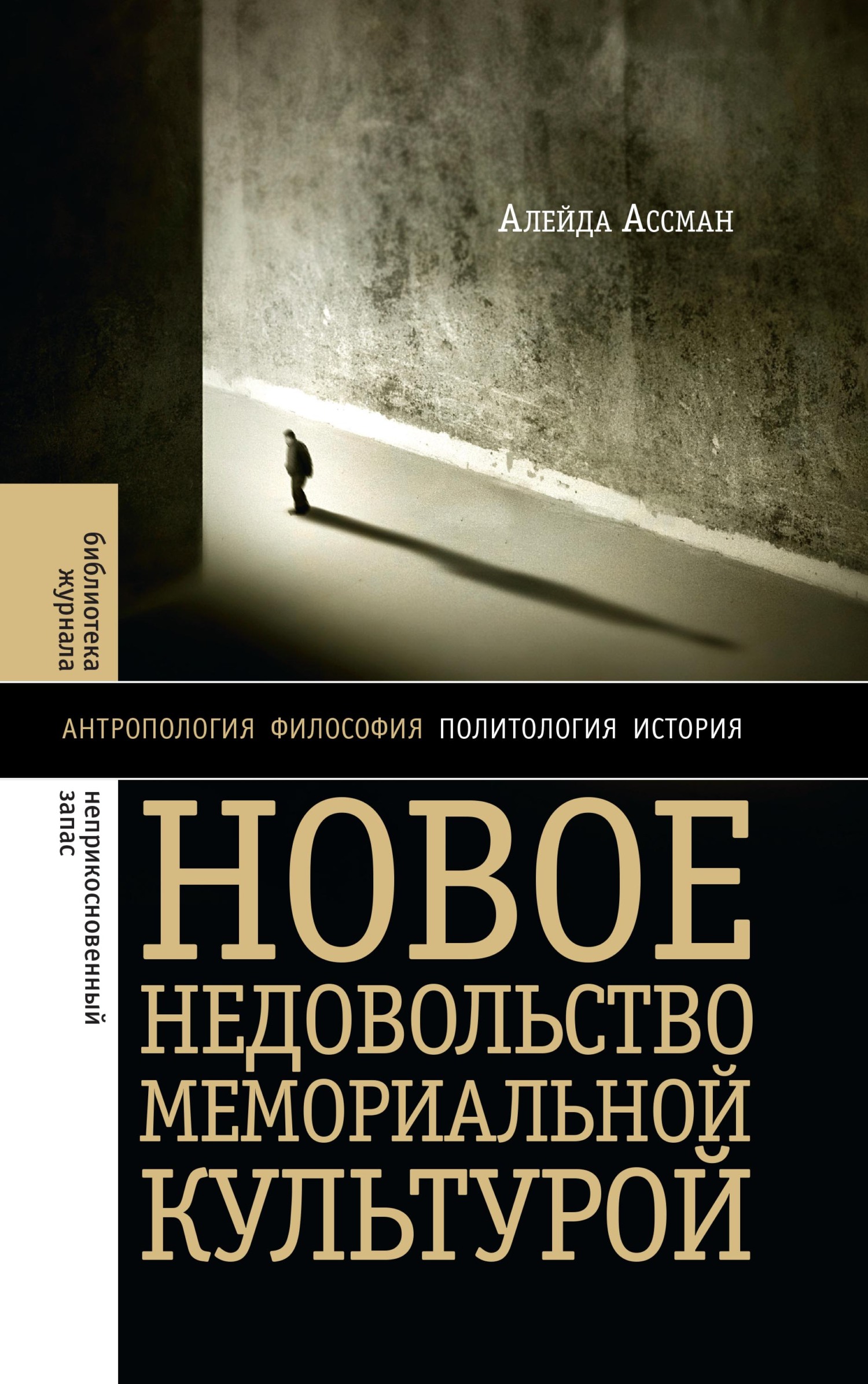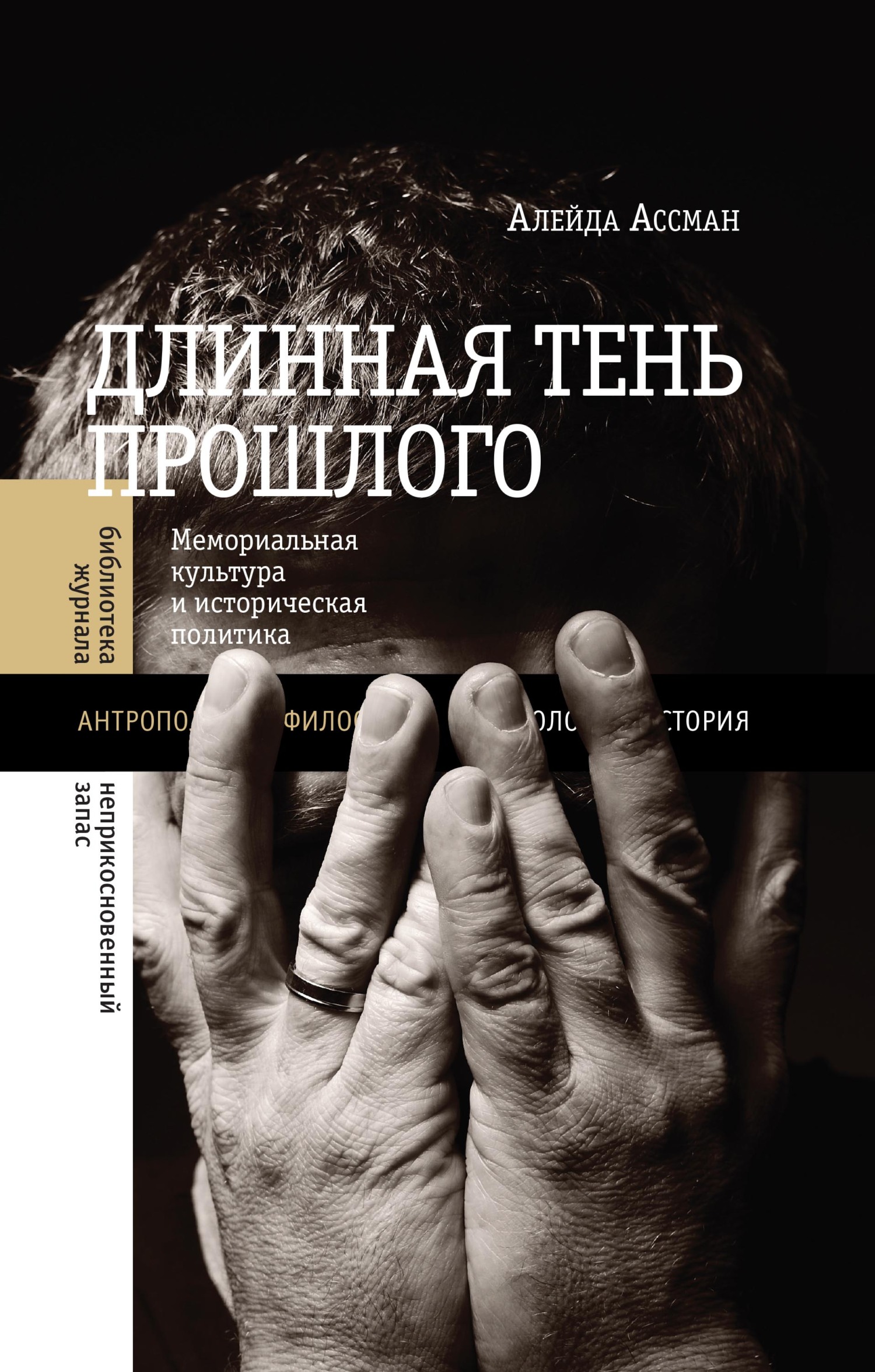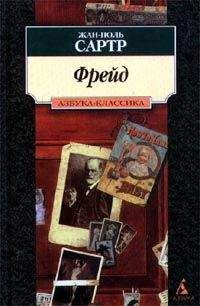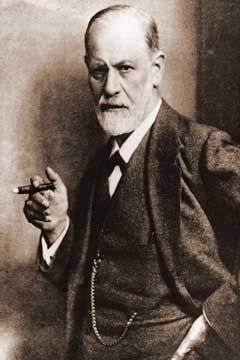ответственность. Напротив, Советский Союз в качестве державы-победительницы сознавал – вместе с западными союзниками – свою моральную правоту. Все они боролись со злом в лице Гитлера и победили его, все они заложили основу нового европейского порядка. Несмотря на импульсы хрущевской «оттепели», направленные на преодоление преступлений сталинизма, эти мрачные страницы истории еще не вошли в официальную российскую историографию, а главное – не стали содержанием государственной мемориальной политики. Пока между потомками жертв и преступниками нет взаимопонимания относительно признания исторической вины, память о жертвах продолжит оставаться накаленной, препятствуя доступу к иным воспоминаниям (в соответствии с представлением об эксклюзивной логике памяти как игре с нулевой суммой). Вместо консенсуса мемориальных культур, включающего в общеевропейскую память воспоминания об обоих массовых преступлениях против человечности, это двойное бремя истории приобретает на политической арене не только характер конкуренции жертв, но и форму столкновения мемориальных культур.
Сандра Калниете внесла свой вклад в обострение конфликта. Она заявила, что «потерпевшие поражение также заслуживают своего места в истории континента»; по ее словам, «без этого исторического опыта миллионов людей европейская память останется односторонней, неполной и несправедливой» [223]. Кроме того, считает Калниете, «оба тоталитарных режима – нацизм и коммунизм – были одинаково преступны». Подобное заявление обернулось скандалом, что не способствовало обсуждению затронутой темы и, напротив, привело к ее новому замалчиванию. Мы касаемся здесь тех европейских нормативных рамок памяти, которые базируются на тезисе об уникальности Холокоста. Сравнение и отождествление обоих гигантских преступлений нарушают глубоко укоренившееся табу, что и подтвердилось скандалом, немедленно разразившимся после выступления Сандры Калниете. Это табу дает о себе знать во всех новейших дебатах, когда заходит речь об интеграции памяти жертв сталинизма в общеевропейскую мемориальную культуру. Проблема восходит к концепции тоталитаризма, появившейся в послевоенные годы. Она рассматривала фашизм и сталинизм как два варианта одного и того же феномена. Отличительные черты и уникальность Холокоста были выявлены лишь в результате дальнейших исторических исследований и оформились в «споре историков». Отождествление обоих гигантских преступлений XX века (о колониализме в этой связи речь не идет) считается с тех пор нарушением табу и рецидивом устаревших исторических воззрений, что вызывает почти столь же сильную моральную реакцию, как и отрицание Холокоста.
Поэтому все шаги ЕС, направленные на «осуждение преступлений тоталитарных коммунистических режимов» в Европе и признание жертв этих режимов, по-прежнему встречают недоверие и большое недовольство [224]. Эти и другие инициативы по преодолению раскола европейской памяти не приводят к успеху из-за упреков, что тем самым происходит отождествление преступлений фашизма и сталинского террора. Например, Йенс Кро отвергает не только инклюзивную конструкцию «Европы жертв», но и настойчиво предостерегает от попыток «примирить конкурирующие памяти в Европе» посредством сближения между «самоотождествлением с жертвами» и «теорией тоталитаризма». Хотя указанные инициативы декларируют уникальность Холокоста, однако «фактически сингулярность еврейского геноцида ставится под вопрос отказом от исторической дифференциации, когда в один ряд выстраиваются сталинский террор, голодомор, режим генерала Франко и Сребреница» [225]. Миха Брумлик решительно отвергает такое расширение памяти, которое объединяет жертвы гитлеризма с жертвами сталинизма. Брумлик настаивает на исторической дифференциации внутри теории тоталитаризма, подчеркивая не только уникальность Холокоста, но и существенные различия, например, между сталинизмом и политическим режимом ГДР. Брумлик протестует против «расплывчатого отождествления полицейско-социального государства, каким была ГДР, со сталинизмом» и напоминает слова Ханны Арендт о том, что «тоталитаризм закончился в России со смертью Сталина в не меньшей степени, чем это произошло в Германии со смертью Гитлера» [226].
Брумлик понимает желание создать в Европе общую культуру памяти об ужасах и преступлениях XX века, однако, по его мнению, путь к ней блокируется недостаточно четким механизмом дифференциации. Этот путь блокируется и принципиальным различием между интенцией исторических исследований, с одной стороны, и индивидуальными историями самих жертв – с другой. Если историка интересуют причинно-следственные связи, обобщения и оценки, то «для жертв несущественно… какой именно режим и по каким причинам лишал людей свободы, подвергал истязаниям и убивал их» [227].
Как же справиться с этой проблемой, чтобы создать общеевропейскую мемориальную культуру, избегая при этом нивелировки важных различий? Здесь мне хотелось бы обратиться к формуле Бернда Фауленбаха, которая была предложена применительно к немецкой мемориальной культуре, имеющей дело с «обеими диктатурами» и которая применима и к Европе в целом. Это соломоново решение позволяет избежать отож-дествления обоих массовых преступлений против человечности, не впадая в релятивизм. Повторю формулу Фауленбаха:
Память о преступлениях сталинизма не должна релятивизировать память о Холокосте.
Память о Холокосте не должна тривиализировать память о сталинизме.
С помощью определенного консенсуса при наличии разногласий и посредством иерархизации можно превратить непримиримую позицию «или – или» в компромисс «и-и», то есть найти модус интеграции для европейской памяти. Но пока еще сохраняется ситуация, когда на востоке Европы существует определенная отчужденность по отношению к памяти о Холокосте, а на западе схожая отчужденность ощущается по отношению к памяти о ГУЛАГе. Американский историк Чарльз Майер привел аналогию из области ядерной физики, чтобы проиллюстрировать различие между памятью о национал-социализме и памятью о коммунизме: подобно плутонию, «горячая» память о национал-социализме имеет длительный период полураспада, а у «холодной» памяти о коммунизме, как у трития, период полураспада гораздо короче [228]. Венгерский историк Ева Ковач так прокомментировала это сравнение: «Насколько могу судить, в посткоммунистических странах дело обстоит ровно наоборот: память о коммунизме остается горячей темой, а вот память о национал-социализме остыла» [229]. Этот тезис не опровергается созданием новых музеев Холокоста в странах Центральной и Восточной Европы. Но память о Холокосте оказывается как бы помещенной в гетто, пока связи с ней не будут отражены в национальных нарративах.
Однако совершенно непонятно, почему в европейской мемориальной культуре обе коммеморации должны противостоять друг другу, угрожая взаимным вытеснением. Как мы уже видели, память всегда испытывает дефицит пространства. Это является причиной конкурентной борьбы и опасений, что одна коммеморация может вытеснить другую. Но память о Холокосте уже институционализировалась столь многообразно, что обратный процесс вряд ли возможен. Отсюда непонятно, какие препятствия могут помешать интеграции обеих базовых коммемораций. Клаус Леггеви подчеркивает: «Лишь объединенная коммеморация о том и о другом прошлом, о государственных преступлениях национал-социализма и сталинизма, взрывает ограниченность национальных рамок. Антиавторитарная общественность должна стать подлинно европейской, если она хочет выйти из окопов холодной войны» [230]. Сохраняющаяся асимметрия обусловлена еще одним фактором, на который обращает внимание литовский литературовед Ирена Вейсайте: «Совершенно необходимо говорить и о ГУЛАГе, о совершавшихся там чудовищных преступлениях против человечности. Но западный мир к этому еще не готов. В