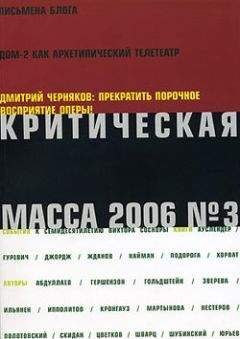В 1970-е годы историческое сообщество не успевало следить за возникновением новых направлений, поток которых казался неиссякаемым. Достаточно вспомнить устную историю, историю повседневности, историческую память, микроисторию, историческую антропологию и многое другое. Все эти направления, несмотря на свое чрезвычайное разнообразие, имели несколько общих черт. Не претендуя и даже решительно отказываясь давать общие “глобальные” объяснения и теоретизировать, они стремились исходить из “конкретного исследования”, отталкиваясь от конкретного случая и выбирая узкий взгляд на предмет. После набивших оскомину парадигм частичное объяснение отдельных, не связанных друг с другом феноменов казалось крайне увлекательным интеллектуальным занятием: усталость от “глобальных фресок” предшествующей эпохи была еще слишком сильна. Но постепенно восторг, вызванный обретением умственной свободы после детерминистского засилья, стал спадать. Не случайно “взрыв истории” — выражение, которым Пьер Нора приветствовал рождение новых направлений исторической науки, постепенно утратило свое метафорическое позитивное звучание и уже в 1990-е приобрело иной, иронический, буквальный смысл, выразив конец глобальной истории. В том-то и дело, что, вопреки надеждам Иванова, новые течения, возникшие и в истории, и в социологии, и в философии в 1970-е идеосинкратически противопоставили себя не только старым парадигмам, с которыми не желали иметь ничего общего, но и друг другу, решительно не пожелав считаться ни с кумулятивным идеалом знания, ни с идеей преемственности хотя бы самых общих представлений о науке. Они решительно не попадали в непроблематизированную, дофуколдианскую историю идей, представленную в обзорах, на которые ссылается Иванов, адресованных американским аспирантам и призванных скрыть хаос, царящий на просторах гуманитарного знания. Эти направления крайне плохо отвечали самым снисходительным требованиям “концептуального порядка — системы теоретических моделей, каждая из которых служит адекватным средство описания и объяснения явлений и процессов в области, определяемой граничными условиями (курсив рецензента. —Д. Х. )”. Тогда же, в 1990-е, стало понятно, что новые методы не способны создать сколько-нибудь ясную и непротиворечивую картину изучаемого ими прошлого, предложить видение сюжета, применимое и к другим, сходным сюжетам. По меткому выражению Кристофа Шарля, дом оказалось нельзя построить из фрагментов даже самой красивой мозаики. В самом деле, о какой преемственности знания можно говорить, например, применительно к творчеству современных американских этнометодологов и того, что Иванов, вслед за американскими авторами, называет “интеграционными парадигмами”, например Бурдье? Именно невозможность сопоставлять и сравнивать эти подходы, принципиальная закрытость новых школ и неверифицируемость их методов в терминах старых и наоборот стали восприниматься как тревожный симптом распада научности гуманитарного знания. Дискуссия о “количественных и качественных методах”, так поразившая воображение отечественных социологов, была вполне периферийным — и, вероятно, самым интеллектуально неизощренным эпизодом этого процесса. Вавилонское столпотворение новых направлений разрушило идеал кумулятивного знания. Но подлинный масштаб кризис гуманитарного знания приобрел в тот момент, когда стало очевидно, что предлагаемые противоречивые попытки научного объяснения социальной действительности перестали вызывать доверие общества, подорвав веру в полезность научного познания и поставив под сомнение идентичность исследователей и интеллектуалов. Именно неясность перспектив гуманитарного знания, неспособность исследователей и интеллектуалов ни предложить новые убедительные методы анализа социальной действительности, ни вернуться к старым, методологическая пустота и растерянность являются важной чертой современной ситуации и ассоциируются сегодня с диагнозом кризиса. Это ощущение распада дисциплин на примере американской исторической науки точно зафиксировал Питер Новик: “К концу 1980-х годов все больше и больше практикующих историков сжились с идеей, что даже по самым общим меркам история перестала представлять собой единую дисциплину. Целое не просто предстало в виде суммы своих частей: вместо целого остались одни разрозненные части” 3.
В своей книге я показываю, что кризис наук о человеке выразился в кризисе базовых исторических понятий, составивших основу концептуального аппарата гуманитарного знания. Распад таких важнейших понятий, как “объективность и реальность”, “демократия” и “нация” и многих других, вызванный глобальными изменениями в восприятии исторического времени, является фундаментальной чертой современного интеллектуального состояния. Имя ему — “немота интеллектуалов”, “каникулы языка”, “кризис наук о человеке”.
Но вернемся к рассуждениям Иванова, которые построены на двойственном и весьма симптоматичном недоразумении. Опыт, на который опирается Иванов, — это опыт американской социологии. Зная истину про историю ее развития, автор рецензии щедро делиться своим знанием с читателем. Он терпеливо разъясняет, что нельзя отождествлять “единообразие и научность” и считать отсутствие “одной парадигмы” кризисом научности. Все эти ложные взгляды, бытовавшие в среде американских социологов, но изжитые ими, рецензент приписывает и автору, и отсталым французским интеллектуалам, уверяя читателя, что “множественность альтернативных теорий есть в любой науке”. Рецензент забывает, что практически безраздельное господство функционализма было отличительной чертой исключительно американской социологии. Во всех же других дисциплинах и в других странах — в Англии, Германии, во Франции — ситуация множественности течений существовала от века. Марксизм, структурализм, психоанализ, социальная история — вот только несколько великих парадигм, совпавших во времени и пространстве на протяжении последних полутора столетий. Поэтому эпизоды развития американской социологии, конечно, по-своему поучительны, но вряд ли применимы к другим дисциплинам.
За заявлением об отсутствии кризиса и о “нормальности” гуманитарного знания обычно следует — таков закон этой риторической стратегии — демонстрация тех направлений, которые позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. И здесь и Иванову, и его американским предшественникам приходиться туго. Ибо следует признать, что за исключением 1920-х годов американская социология никогда не была законодательницей интеллектуальной моды и никак не могла — и, увы, сегодня тоже не может — быть названа творцом интеллектуальных новаций, мерилом, на материале которого можно писать историю идей ХХ века. Поэтому даже за суррогатом в виде “интеграционных парадигм” авторам обзоров приходится перемещаться в Европу, чтобы вывезти оттуда и Бурдье, и Хабермаса, и даже Гидденса. Увы, такое меню навряд ли способно утолить интеллектуальный голод даже самых неприхотливых: и в случае Бурдье, имя которого во французской социологии отошло к интеллектуальной истории еще до смерти “последнего великого интеллектуала”, и в случае теории коммуникаций мы попадаем все в ту же славную эпоху обновления 1970-х, а что касается как Антони Гидденса, так и выражения “конструктивистский структурализм”, то тяжесть доказательства принадлежности этих словосочетаний истории идей целиком и полностью лежит на плечах Иванова и его американских коллег.
Симптомы болезни, переживаемой гуманитарным знанием, рассыпаны в тексте Иванова. Взять хотя бы сильный образ “большинства академического сообщества” — не правда ли, социологу естественно размышлять в терминах большинства? — удовлетворенных тем, что anything goes, и не обремененных методологической рефлексией “прагматиков, вполне успешно руководствующихся существующим порядком теоретических моделей”. Здесь упрек рецензента, безусловно, попадает в цель: в своей книге я ни в коем случае не имела амбиции высказываться относительно “большинства академического сообщества”, столь метко описанного Ивановым. Напротив, свою задачу я видела в том, чтобы выбрать тех немногих, от творчества которых зависит будущее гуманитарного знания. Кстати сказать, рецензент напрасно столь прагматически воспринял заголовок одной из глав моей книги “Провинциальный комплекс парижан”, решительно почувствовав себя столичным коллегой провинциалов — Люка Болтански, Лорана Тевено, Бруно Латура (которые все-таки не настолько отстали от современности, чтобы считаться современниками Габриеля Моно, историка-позитивиста, основавшего первый французский журнал научной истории “Ревю историк” в 1876 году).
Практики чтения, используемые автором рецензии, заставляют вновь задуматься о стиле научного письма и о тех изменениях, которые ему предстоит, вероятно, пережить. Конечно, в наши дни информационного бума и многоплановой занятости трудно ожидать от коллег, что они прочтут все сноски. Но тем не менее режим научности требует сносок — на них в гуманитарном знании держится идея верификации. Иными словами, сноски являются стилистическим выражением дорогого для Иванова идеала научности. Без сносок, в которых сокрыта возможность проверки истинности высказывания, отличие научной литературы от просто литературы теряется и растворяется. Но… что делать, если сноски больше никто не читает? Как быть автору, если все, что он заботливо поместил в сноски, на случай, если его захотят проверить, не имеет шансов быть прочитанным даже автором рецензии, а не только рядовыми читателями? Например, в сносках я указываю базу, от которой высчитывались проценты переводной литературы. Я подробно описываю, как конструировалась база в русском случае, ибо это было нелегким делом, и специально оговариваю, что я имею дело только с переводной литературой, не учитывая общий поток книг, опубликованных в данной области по-русски, но вся эта ценная информация, помещенная в сноски, не доходит до моего рецензента.