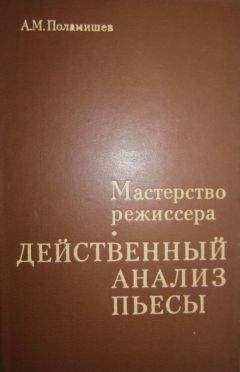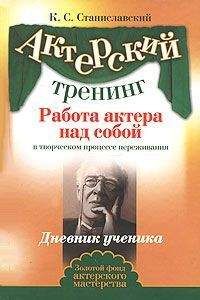Заметим теперь, что конфликтный факт, выражающий наиболее полно суть главного конфликта пьесы и ее идею, происходит у Островского в самом конце действия пьесы.
А. Н. Островский, не только прекрасно чувствовавший природу театра, но и много размышлявший о законах сценического искусства, сообщал Н. И. Музилю: «По актам я не могу посылать пьесу (речь идет о «Бесприданнице». — А. П.), потому что пишу не по актам: у меня ни один акт не готов, пока не написано последнее слово последнего акта»[116].
А. П. Чехов был убежден, что «повесть, как и сцена, имеет свои условия. Так, мне мое чутье говорит, что в финале повести или рассказа я должен искусственно сконцентрировать в читателе впечатление от всей повести»[117]. И еще одно признание Чехова: «Есть у меня интересный сюжет для комедии, но не придумал еще конца. Кто изобретет новые концы для пьесы, тот откроет новую эру… Не стану писать ее (пьесу), пока не придумаю конца, такого же заковыристого, как начало. А придумаю конец — напишу ее в две недели»[118].
Интересно, каков же финал пьесы «Дядя Ваня», удалось ли Чехову открыть «новую эру» или он в чем-то все же традиционен?
Вспомним, что последнее, четвертое действие начинается с того, что все ожидают подачи лошадей — Серебряковы уезжают в Харьков.
Астров тоже собирается уезжать, но предварительно ему необходимо, чтобы Войницкий вернул баночку с морфием.
Войницкий. Оставь меня!
Астров. С большим удовольствием, мне давно уже нужно уехать отсюда, но, повторяю, я не уеду, пока ты не возвратишь того, что взял у меня.
Совершенно очевидно, что для обоих конфликтным фактом остается выстрел Войницкого в Серебрякова!
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Войницкий явно спущен всем, что произошло, но пытается прикрыто это бравадой…
.............
(Пауза.)
Разыграть такого дурака: стрелять два раза и не попасть! Этого я себе никогда не прощу!
Астров. Пришла охота стрелять, ну, и палил бы в лоб самому себе.
В то, что морфий ему нужен для того, чтобы отравиться, Астров, очевидно, не верит, иначе он не позволил бы себе шутить…
Войницкий (закрывает лицо руками). Стыдно! Если бы ты знал, как мне стыдно! Это острое чувство стыда не может сравниться ни с какой болью. (С тоской.) Невыносимо! (Склоняется к столу.) Что мне делать? Что делать?
Войницкому, возможно, хочется, чтобы его пожалели…
Астров. Ничего.
Астров, очевидно, понимает, что происходит с Войницким, но ему претит столь немужественное поведение дяди Вани. А вообще вся эта шумиха с выстрелом, наверное, представляется ему пошлейшей мелодрамой. Может быть, устами Астрова Чехов пытается здесь, в конце пьесы, «искусственно сконцентрировать в читателе (или в зрителе. — А. П.) впечатление от всей повести» — повести о человеческой пошлости?
Войницкий. Дай мне что-нибудь! О боже мой… (Плачет.)… Дай мне чего-нибудь… (Показывает на сердце.) Жжет здесь.
Астров (кричит сердито). Перестань!.. Да, брат, во всем уезде было только два порядочных, интеллигентных человека: я да ты. Но в какие-нибудь десять лет обывательская жизнь презренная затянула нас; она своими гнилыми испарениями отравила нашу кровь, и мы стали такими же пошляками, как все.
(Живо.) Но ты мне зубов не заговаривай, однако. Ты отдай то, что взял у меня.
Войницкий. Я у тебя ничего не брал.
Астров. Ты взял у меня из дорожной аптечки баночку с морфием.
(Пауза)
Послушай, если тебе во что бы то ни стало хочется покончить с собою, то ступай в лес и застрелись там! Морфий же отдай, а то пойдут разговоры, догадки, подумают, что это я тебе дал… С меня же довольно и того, что мне придется вскрывать тебя… Ты думаешь, это интересно?
(Входит Соня.)
Войницкий. Оставь меня!
Да, Астрову явно не по душе поведение Войницкого. Очевидно, только воспитанность Астрова не позволяет ему сказать откровенно все, что он думает.
Соня вместе с Астровым еще некоторое время уговаривают Войницкого вернуть морфий. Наконец…
Войницкий (достает из стола баночку и подает ее Астрову). На, возьми. (Соне) Но надо скорее работать, скорее делать что-нибудь. А то не могу… не могу…
Не правда ли, довольно резкая перемена желаний. Еще несколько минут назад Войницкий не видел выхода из создавшегося положения.
Затем все прощаются. Войницкий и Серебряков извиняются друг перед другом за все случившееся…
Астров прощается с Еленой Андреевной. Серебряковы уезжают. Соня и дядя Ваня садятся «работать» — писать счета…
Работник. Михаил Львович, лошади поданы.
Опять, как в начале 1 действия, за Астровым прислали лошадей; опять Соня спрашивает Астрова, когда он приедет; опять нянька поит Астрова водкой.
Астров. Слышал…
Соня. Когда же мы увидимся?
Астров. Не раньше лета, должно быть. Зимой едва ли… Само собой, если случится что, то дайте знать — приеду. (Пожимает руки.) Спасибо за хлеб, за соль, за ласку… одним словом, за все.
(Идет к няне и целует ее в голову.)
Прощай, старая.
Марина. Так и уедешь без чаю?
Астров. Не хочу, нянька. Марина. Может, водочки выпьешь?
Астров (нерешительно). Пожалуй… (Астров выпивает водки, прощается со всеми и идет к выходу.)
Вспомним, что в 1-м действии Войницкий обвинял Серебряковых в том, что их приезд нарушил ритм, и порядок его и Сониной работы… Теперь они оба вернулись к своей прежней работе…
Войницкий (пишет). «2-го февраля масла постного 20 фунтов… 16 февраля опять масла постного 20 фунтов… Гречневой крупы…»
(Пауза.)
Марина. Уехал.
(Пауза.)
Соня (возвращается, ставит свечу на стол). Уехал…
Войницкий (сосчитал на счетах и записывает). Итого… пятнадцать… двадцать пять…
(Соня садится и пишет.)
Марина (зевает). Ох, грехи наши…
(Телегин входит на цыпочках, садится и тихо настраивает гитару.)
Войницкий (Соне, проводя рукой по ее волосам). Дитя мое, как мне тяжело!
Но эта работа, очевидно, не приносит радости и спасения.
Соня. Что же делать, надо жить!
.............
Проживем длинный, длинный ряд дней, долгих вечеров; будем терпеливо сносить испытания, какие пошлет нам судьба; будем трудиться для других… Когда наступит наш час, мы покорно умрем, и бог сжалится над нами, и мы с тобою, дядя, милый дядя, увидим жизнь светлую, прекрасную… Я верую, дядя, я верую горячо, страстно… Мы отдохнем!
(Телегин тихо играет на гитаре.)
Бедный, бедный дядя Ваня, ты плачешь…
Ты не знал в жизни радостей, но погоди, дядя Ваня, погоди…
Мы отдохнем… (Обнимает его.)
Мы отдохнем!..
(Стучит сторож, Телегин тихо наигрывает; Мария Васильевна пишет на полях брошюры; Марина вяжет чулок.)
Мы отдохнем!
(Занавес медленно опускается.)
А спасенье ли для них в Христианской вере, что «аз воздастся»?..
Если Соня действительно верит, а не уговаривает себя и дядю Ваню, то зачем же так много говорить о том, что является для нее истиной? Да и Войницкого это утешение, как видно, не очень успокаивает… Как же Телегин может играть во время такого диалога? Не только присутствовать, но даже играть на гитаре?
А Марии Васильевне тоже безразлично, что происходит с Войницким и Соней. И почему добрая няня тоже безразлична к страданию близких людей?
Напрашивается единственный ответ: и слезы дяди Вани, и утешения Сони — это сцена не неожиданная для всех обитателей дома — такое много раз бывало, очевидно, и до приезда Серебряковых и, наверное, будет много раз и после их отъезда.
Возможно, по этой же причине Астров столь иронично относится и к похищению морфия, и ко всем стонам и жалобам Войницкого — все это, по мнению Астрова, проявление «жизни обывательской», «жизни презренной».
Очевидно, если бы Войницкий действительно твердо решил, что ему незачем далее жить на этом свете, то он бы нашел средство, чтобы покончить с собою. И если уж пришлось вернуть похищенный морфий, то (при твердом намерении самоубийства) незачем было продолжать жаловаться на свою судьбу. Складывается впечатление, что и похищение морфия, и его возвращение, и жалобы на то, что ему «очень стыдно», — все это направлено к одной цели: Войницкому очень хочется, чтобы его пожалели. Он этого и добивается в конце пьесы: Войницкий откровенно плачет, а Соня его утешает…