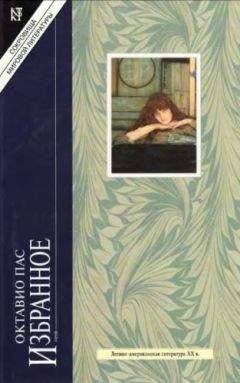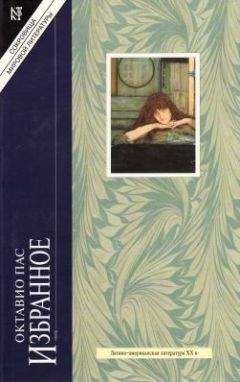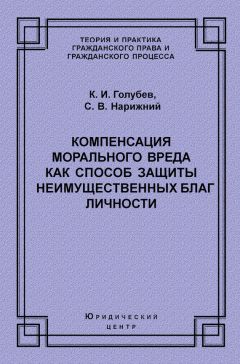Современность — это развод. Я беру это слово в самом непосредственном его значении: отделяться от чего-то, разъединяться с чем-то. Современность начинается с размежевания с христианским средневековьем. Неизменно верная себе современность — воплощение вечного раскола, непрестанного ухода от самой себя. Каждое поколение переживает изначальное состояние разлада, снова и снова отрекаясь от себя и возрождаясь. Разобщение приобщает нас к истокам нашего общества, а разъединение устремляет навстречу самим себе. И мы, словно мученики Данте — впрочем, для нас это никакие не муки, а воздаяние за жизнь в истории, — ищем себя в другом, находим и, слившись с этим другим, изобретенным нами самими, по сути нашим собственным отражением, спешим уйти от призрака, убежать его, стремимся на поиски самих себя, вечно гоняясь за собственной тенью. Всегда к чему-то, вечно туда, неведомо куда, — вот это мы и именуем прогрессом.
Наше представление о времени как непрестанном изменении не столько разрыв со средневековым христианством, сколько перегруппировка составляющих его элементов. Конечное время христианства преобразуется в едва ли не бесконечный процесс естественной эволюции и истории, сохраняя при этом два неотъемлемых его свойства: необратимость и непрерывность бытия. Современность отвергает циклическое время не менее категорично, чем св. Августин{173}: вещи случаются лишь однажды, ничто неповторимо. Ну а что касается персонажа разыгрывающейся драмы времени, то это уже не чья-то душа, но целое сообщество, род человеческий. Вторая составляющая — присущее вечности совершенство — теперь сделалась атрибутом истории. Так впервые само изменение было оценено как благо: существа и вещи достигают совершенства, своего полного воплощения не в ином времени мира иного, а в этом, не в вечном настоящем, а в мимолетном. История — вот наш путь к совершенству.
И современность сосредоточилась не на реальной действительности отдельно взятого человека, а на идеальной действительности общества и человеческого рода. Утрачивая личный религиозный смысл, представление о спасении или осуждении души на вечные муки, человеческие дела и поступки начинают окрашиваться надличным светом истории. Отвращение от ценностей христианства происходило одновременно с подлинным обращением в другую веру: человеческое время больше не вращается вокруг недвижного солнца вечности, и совершенство уже не вне, а внутри истории, к тому же род человеческий, а не индивид отныне носитель совершенства. Да и достигается совершенство уже не слиянием с Богом, а участием в земных исторических делах. Совершенство, бывшее некогда артибутом вечности, теперь помещается во времени, созерцательная жизнь перестает быть высшим идеалом, зато и его место занимает деяние во времени. Слияние не с Богом, а с историей — вот удел человеческий. Труд вытесняет покаяние, прогресс — благодать, политика — религию.
Современная эпоха считает себя революционной по разным соображениям. Первое и наиболее очевидное семантического свойства: современность начала с того, что поменяла смысл слова «революция»{174}. К изначальному смыслу — вращение миров и светил — добавился другой, сейчас наиболее распространенный, означающий насильственный разрыв со старыми порядками и установление более справедливого и разумного общественного строя.[51] Вращение светил зримо свидетельствовало о цикличности времени. Меж тем в новом значении слово «революция» прекрасно выражало самую суть линейного непрерывного необратимого времени. В первом смысле — вечное возвращение, во втором — разрушение прошлого и сооружение на его месте нового общества. Но и первоначальный смысл полностью не исчезает, он снова преобразуется. Идея революции в нынешнем значении слова предельно жестко воплощает концепцию истории как цепи неизбежных прогрессивных преобразований; если общество не развивается и застаивается, разражается революция. Но если без революции не обойтись, значит, истории присуща цикличность. Вот неразрешимая загадка наподобие тайны Троицы. Меж тем революции — выражения необратимого времени и, стало быть, критического разума, это свобода как таковая. Революция двойственна: она являет нам как мифологический лик, связанный с цикличностью, так и геометризованный облик критического разума. Самую старую старину и самую новую новизну.
Великим революционным переворотом, великим преобразованием стало преобразование будущего. В христианском обществе будущее было осуждено на смерть. Победа вечного настоящего на другой день после Страшного Суда означала конец будущего. Современность переворачивает понятия: если человек — это история, и только в истории он сбывается, если история — это время, устремленное в будущее, а будущее — место, где выбирают очередное совершенство, если совершенство всегда отодвигается в будущее… тогда из трех времен главным становится будущее. Оно как магнит притягивает к себе настоящее, и оно же пробный камень, на котором проверяется прошлое. Наше будущее так же неизменно и вечно, как вечно и неизменно христианское настоящее. Оно не внемлет суете дня сегодняшнего и равнодушно к горестям минувшего. Хотя наше будущее — дитя истории, оно за пределами истории, вдали от ее бурь, превратностей и перемен. Если это и не христианская вечность, то все же оно сходно с ней, ибо тоже находится по ту сторону времени, ведь будущее вытягивает время в последовательность, и оно же отрицает ее. Та же сила, что толкала христианина в рай или в ад, выталкивает современного человека в будущее.
Христианская вечность устраняла все противоречия и замиряла все бури, она была концом и времени, и истории. Что же до нашего будущего, то хотя оно и склад всяческих совершенств, все же это не место для отдыха и не конец. Напротив, это всегда начало и постоянное стремление идти дальше. Наше будущее — это некий гибрид ада и рая: рая потому, что это место, которое мы выбираем сами, ада потому, что мы никогда им не были довольны. Совершенство всегда относительно, марксисты и прочие заядлые историцисты, указуя перстом в небеса, утверждают, что после того, как уладятся нынешние конфликты, неизбежно появление новых, более сложных, но если считать, что будущее покончит и с историей, и со всеми борениями, то получается, что мы по собственной воле приносим себя в жертву миражу, ведь будущее, по определению, недостижимо и неосязаемо. Обетованная земля истории недосягаема, вот здесь и дает себя знать во всей своей грубости и непосредственности то противоречие, которое и есть суть современности. Критика, которой современность подвергла христианскую вечность, а равно критика христианством концепций циклического времени античности приложима и к нашим собственным представлениям о времени. Преклонение перед принципом изменчивости предопределило преклонение перед будущим — временем, которого нет.
Современна ли современная литература? Ее современность двусмысленна. Еще в преромантическую эпоху поэзия и современность затеяли тяжбу, и она до сих пор не окончена. Ниже я постараюсь изложить суть дела, не слишком задерживаясь на деталях — я не историк литературы, — но останавливаясь на наиболее характерных примерах. Я заранее принимаю упреки в необъективности, тем более что это умышленная необъективность. Ведь моя точка зрения — это точка зрения латиноамериканского поэта, а то, чем я здесь занимаюсь, не академические изыскания, но исследование собственных истоков и попытка косвенного самоопределения. Эти размышления принадлежат тому роду литературы, который Бодлер называл пристрастной критикой{175}, единственной, по его мнению, стóящей критикой.
Я попытался определить современную эпоху как эпоху критическую, рожденную отрицанием. Это отрицание распространяется и на искусство и литературу, художественные ценности обособляются от ценностей религиозных. Литература завоевывает независимость. Поэтическое, художественное, прекрасное — все это самостоятельные ценности, отныне не связанные с другими ценностями. Их самодостаточность превращает искусство в «объект», на белый свет появляются музей и критика. Современность создает культ литературного «объекта» — стихов, романа, драмы. Начало этому положено Возрождением, процесс усугубляется в XVII веке, но только в современную эпоху поэты по-настоящему осознают всю головокружительность и противоречивость этой идеи. Поэтическое произведение — это отдельный самодостаточный мир. Но поэтическое произведение становится «изнутри» критическим. На первый взгляд это совершенно естественно: раз современная литература живет в критическую эпоху, она становится критической литературой. И все же, если присмотреться лучше, современность этой литературы парадоксальна. В самых ярких и типичных произведениях — я имею в виду традицию, ведущую от романтиков к сюрреалистам — современная литература представляет собой страстное отрицание современности. К тому же она настойчиво стремится, и это относится как к роману, так и к лирической поэзии, — я имею в виду тенденцию, получившую наибольшее развитие у Джойса и Малларме, — стать критикой, жесткой и всеобъемлющей критикой самой себя. Критикой буржуазного общества и его ценностей и критикой языка и его значений. И в том и в другом случае современная литература, по сути, отрицает себя, но, отрицая себя, она самоутверждается в собственной современности.