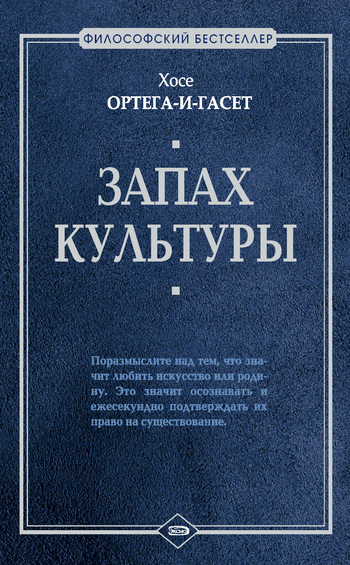что иной раз он кажется манерным. Как всякий неординарный человек, отмеченный печатью яркой индивидуальности, как всякий, кто с особым усердием возделывает свой маленький сад, Валье-Инклан окружен толпой подражателей. Кое-кто, спутав его искусство с искусством Рубена Дарио, а также их обоих – с французскими символистами, способствовал появлению у нас целой когорты поэтов и прозаиков, которые все говорят почти одно и то же, да к тому же одинаковым – вычурным, бедным и невыносимым языком. И оказывается, что работа над языком, страстное стремление усилить яркость слов выцветших, отшлифовать слова шероховатые и заставить блестеть потускневшие отнюдь не приносит пользы, а один лишь вред.
Если бы сеньор Валье-Инклан расширил рамки своего творчества, то его стиль стал бы строже, утратил бы мнимую музыкальность, болезненность и красивость, которые иной раз утомляют, но почти всегда чаруют. Сегодня это интересный писатель с резко выраженной индивидуальностью; тогда он стал бы великим писателем, мастером и учителем для других. Но до тех пор, черт возьми, следовать ему грешно и вредно!
Со своей стороны признаюсь, хотя мое признание вовсе не интересно, что это один из тех наших современных авторов, которые меня особенно увлекают и которых я читаю с величайшим вниманием. Уверен, что он лучше любого другого может научить некоторым познаниям в области фразеологической химии. Но как я порадуюсь в тот день, когда, открыв новую книгу сеньора Валье-Инклана, я не наткнусь в ней ни на «златоволосых принцесс, которые прядут на хрустальных прялках», ни на знаменитых разбойников, ни на никчемные инцесты! Когда, дочитав эту предполагаемую книгу и весело хлопнув несколько раз по ней рукой, я воскликну: «Наконец-то дон Рамон дель Валье-Инклан расстался со своими бернардинками и рассказывает нам о чем-то человеческом, в благородной манере писателя-аристократа!»
Требовать от испанца, чтобы, войдя в трамвай, он не окидывал взглядом знатока всех едущих в нем женщин, – значит требовать невозможного. Ведь это одна из самых характерных и глубоко укоренившихся привычек нашего народа. Та настырность и почти осязаемость, с какими испанец смотрит на женщину, представляются бестактными иностранцам и некоторым моим соотечественникам. К числу последних отношу себя и я, ибо у меня это вызывает неприятие. И все же я считаю, что эта привычка – если оставить без внимания настырность, дерзость и осязаемость взгляда – составляет одну из наиболее своеобразных, прекрасных и благородных черт нашей нации. А отношение к ней такое же, как и к другим проявлениям испанской непосредственности, которые кажутся дикарскими из-за смешения в них чистоты и скверны, целомудрия и похоти. Но если их очистить, освободить изысканное от непристойного, возвысить благородное начало, то они могли бы составить весьма своеобразную систему поведения, наподобие той, суть которой передается словами gentleman или homme de bonne compagnie. [79]
Художникам, поэтам, людям света надо подвергнуть этот сырой материал многовековых привычек реакции очищения путем рефлексии. Это делал Веласкес, и можно не сомневаться, что восхищение представителей других народов его творчеством в немалой степени обусловлено тем, с какой любовью выписал он телодвижения испанцев. Герман Ко ген говорил мне, что каждый свой приезд в Париж он использует для того, чтобы побывать в синагоге и полюбоваться жестами евреев – уроженцев Испании.
Сейчас, однако, я не задаюсь целью раскрыть благородный смысл, скрывающийся за взглядами, которыми испанец пожирает женщину. Это было интересно, по крайней мере, для «Наблюдателя», в течение нескольких лет испытывавшего влияние Платона, отменного знатока науки видения. Но в данный момент у меня другое намерение. Сегодня я сел в трамвай, и поскольку ничто испанское мне не чуждо, то пустил в ход вышеупомянутый взгляд знатока, постаравшись освободить его от настырности, дерзости и осязаемости. И, к величайшему своему удивлению, я отметил, что мне не понадобилось и трех секунд, чтобы эстетически оценить и вынести твердое суждение о внешности восьми или девяти пассажирок. Эта очень красива, та – с некоторыми изъянами, вон та – просто безобразна и т. д. В языке не хватает слов, чтобы выразить все оттенки эстетического суждения, складывающегося буквально в мгновение ока.
Поскольку путь предстоял долгий, а ни одна из моих попутчиц не давала мне повода рассчитывать на сентиментальное приключение, я погрузился в размышления, предметом которых были мой собственный взгляд и непроизвольность суждений.
«В чем же состоит, – спрашивал я себя, – этот психологический феномен, который можно было бы назвать вычислением женской красоты?» Я сейчас не претендую на то, чтобы узнать, какой потаенный механизм сознания определяет и регулирует этот акт эстетической оценки. Я довольствуюсь лишь описанием того, что мы отчетливо себе представляем, когда осуществляем его.
Античная психология предполагает наличие у индивида априорного идеала красоты – в нашем случае идеала женского лица, который он налагает на то реальное лицо, на которое смотрит. Эстетическое суждение тут состоит просто-напросто в восприятии совпадения или расхождения одного с другим. Эта теория, происходящая из Платоновой метафизики, укоренилась в эстетике, заражая ее своей изначальной ошибочностью. Идеал как идея у Платона оказывается единицей измерения, предсуществующей и трансцендентной.
Подобная теория представляет собой придуманное построение, порожденное извечным стремлением эллинов к единому. Ведь бога Греции следовало бы искать не на Олимпе, этом подобии chateau, [80] где наслаждается жизнью изысканное общество, а в идее «единого». Единое – это единственное, что есть. Белые предметы белы, а красивые женщины красивы не сами по себе, не в силу своеобразия, а в силу большей или меньшей причастности к единственной белизне и к единственной красивой женщине. Плотин, у которого этот унитаризм доходит до крайности, нагромождает выражения, говорящие нам о трагической устремленности вещей к единому: «(Они) спешат, стремятся, рвутся к единому».
Их существование, заявляет он, не более чем «след единого». Они испытывают почти что эротическое стремление к единому. Наш Фрай Луис, платонизирующий и плотинизирующий в своей мрачной келье, находит более удачное выражение: единое – это «предмет всепоглощающего вожделения вещей».
Но, повторю, все это – умственное построение. Нет единого и всеобщего образца, которому уподоблялись бы реальные вещи. Не стану же я, в самом деле, накладывать на лица этих дам априорную схему женской красоты! Это было бы бестактно, а кроме того, не соответствовало бы истине. Не зная, что представляет собой совершенная женская красота, мужчина постоянно ищет ее с юных лет до глубокой старости. О, если бы мы знали заранее, что она собою являет!
Так вот, если бы мы знали это заранее, то жизнь утратила бы одну из лучших своих пружин и большую долю своего драматизма. Каждая