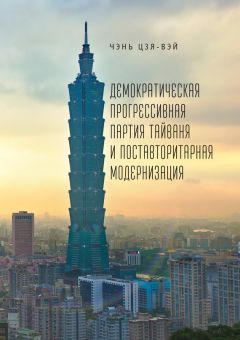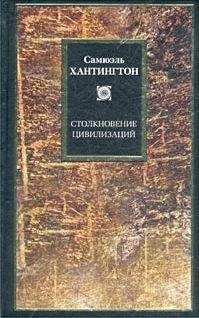Обращение к различным типам личности для объяснения особенностей культуры принесло не слишком много пользы. Если характеризовать индивидов с точки зрения личностных черт или обобщенных мотивов поведения, можно обнаружить, что порой «индивиды, объединенные общей культурой, отличаются друг от друга более заметно, чем индивиды, представляющие разные культуры» (Kaplan, 1954). Выясняется также, что если модальные типы личности и существуют (например, «авторитарная личность» или «личность, нацеленная на достижения»), то распространить их можно лишь на треть населения. Психологические антропологи и культурные психологи уже давно признали, что «различные модальные системы личности ассоциируются с соответствующими социальными системами, в то время как личности одной и той же модальности встречаются в различных социальных системах» (Spiro, 1961). Поэтому личностный подход к разнообразию культурных практик кажется мне тупиковым (Shweder, 1991).
Признание второе: я плюралист
Мое второе признание заключается в том, что я — культурный плюралист. В основе моей версии культурного плюрализма лежит универсальная истина, которую я называю «принципом смешения». Приверженец этого принципа убежден, что познаваемый мир неполон, если его рассматривать с одной-единственной точки зрения, беспорядочен — если на него смотреть со всех точек сразу, и пуст — если вообще не фокусировать взгляд. Выбирая между неполнотой, беспорядком и пустотой, я предпочитаю неполноту, которая позволяет время от времени менять подходы и критерии оценки.
Данная версия культурного плюрализма отнюдь не противоречит универсализму. Не стоит делить теоретиков культуры лишь на две группы, одна из которых полагает, что развивается абсолютно все («радикальные релятивисты»), а другая — что в развитии находится что-то одно («единообразные универсалисты»). Я твердо верю в «универсализм», но в такой универсализм, который не допускает единообразия. Именно это позволяет мне считать себя плюралистом. Иначе говоря, я полагаю, что универсальные ценности действительно существуют, но их довольно много. По моему мнению, жизненные идеалы разнообразны, гетерогенны, несводимы к общим знаменателям типа «полезности» или «удовольствия» и находятся в постоянном конфликте друг с другом. Мне кажется, что все хорошее в нашей жизни нельзя максимизировать одновременно. И поэтому, когда дело доходит до выбора подлинных ценностей, всегда имеет место своеобразный торг. Именно по этой причине в мире существуют различные ценностные системы (или культуры) и как раз поэтому ни одна культурная традиция не в состоянии восславить все блага жизни сразу.
Культурный плюрализм влечет за собой и иные последствия, и некоторые из них весьма примечательны. Например, есть мнение, что члены исполнительного совета Американской антропологической ассоциации поступили мудро и смело, когда в 1947 году осудили Всеобщую декларацию прав человека ООН из-за «этноцентричности» этого документа. В то время антропологи все еще гордились антиколонизаторским отстаиванием альтернативных способов жизни (Shweder, 1996 b).
Прогресс и плюрализм: возможно ли сосуществование?
Плюрализм не отрицает понятий прогресса или регресса. Прогресс означает все большее наращивание того, что представляется «желаемым» (то есть привлекательным в силу своей «благости» или «полезности»). Соответственно под регрессом понимается утрата, потеря «желаемого». Определив нечто в качестве «блага» (например, заботу о престарелых родителях или уничтожение инфекционных заболеваний), можно объективно судить о достижениях общества в данном отношении. Если рассматривать снижение детской смертности с момента рождения ребенка и до девяти месяцев в качестве показателя успеха, то Соединенные Штаты объективно будут выглядеть более передовыми, нежели Африка или Индия. В то же время, если исходить из выживания ребенка в первые девять месяцев после зачатия (то есть в чреве матери), то Африка и Индия с их низкими показателями абортов объективно предстанут более развитыми, чем США, где абортов делают довольно много.
Разумеется, решения о том, что именовать «добром» и как морально структурировать мир, всегда произвольны. Например, в качестве критерия успеха популяции эволюционные биологи рассматривают ее абсолютную численность, или «репродуктивную приспособленность». Но, занимая подобные позиции, — то есть считая главным показателем успеха генетическое воспроизводство своего племени или рода, — как мы должны оценивать противозачаточные таблетки, легализацию абортов и кризис семьи в развитых странах? Не являемся ли мы свидетелями самого настоящего регресса?
Или, обращаясь к другому примеру, каким образом следует подходить к таким показателям «качества» жизни, как ее продолжительность? Чем дольше живет население, тем выше вероятность хронических болезней, функциональных расстройств и, следовательно, больше совокупность страданий, переживаемых людьми (кстати, показатель вполне количественный). Благие цели (более долгая жизнь и отсутствие боли) не всегда сочетаются друг с другом. Более продолжительная жизнь отнюдь не обязательно более совершенная, не так ли? Или, если продолжительность жизни — подлинная мера успеха, то почему численность населения не может выступать в той же роли?
И почему, собственно, продолжительности жизни придается такое значение? Каковы те принципы логики или каноны индуктивной науки, которые устанавливают подобный стандарт вычерчивания моральных карт или оценки культурного прогресса? Чем плоха продолжительность жизни на уровне, скажем, сорока лет? Или почему не взять за основу более жизнеутверждающую перспективу, оценивая жизненные шансы человеческого зародыша? Я уже говорил, что по данному показателю страны «первого» и бывшего «второго» мира выглядят куда хуже африканских и азиатских обществ. Представьте, насколько по-другому будут выглядеть наши графики, если мы начнем учитывать в подсчетах 20—25-процентный показатель абортов в Соединенных Штатах и Канаде или же 50-процентный — в России в сравнении с 2 или 10 процентами в Индии, Тунисе и других «развивающихся» странах.
И дело здесь вовсе не в тех дебатах, которые идут в США по поводу абортов (я сам, кстати, выступаю за свободный выбор женщины в данном вопросе). Это всего лишь один из произвольных аспектов морального «районирования» и степени свободы, которой обладает индивид, выбирающий идеальный стандарт идеальной жизни. По мере того, как социумы становятся все более технологически развитыми, показатель абортов зачастую растет, одновременно снижая продолжительность жизни населения (исходя из того, что за точку отсчета берется момент зачатия, а не появления на свет). В некоторых уголках земного шара, чаще именно в тех, где ценят репродуктивный успех и большие семьи, раннее детство является довольно опасным этапом жизни. Но в иных местах, там, где развиваются высокие технологии и предпочитают маленькие семьи, женское чрево теперь лишено покрова тайны, и потому реальные опасности подстерегают человеческое существо гораздо раньше, еще до рождения.
Как только намечено и названо определенное «благо», можно приступать к объективной оценке прогресса и регресса. Причем мой стиль ценностного подхода заметно отличается от различных форм триумфального прогрессизма, пытающегося превозносить одну культурную традицию над всеми прочими. Одни и те же вещи могут казаться хорошими или дурными в зависимости от ценностного критерия конкретной культуры, которым вы пользуетесь в данной ситуации. Оценивая потенциально положительные явления жизни, культурные плюралисты усматривают плюсы и минусы в большинстве устоявшихся культурных традиций (Shweder et al., 1997). А когда дело доходит до составления хроник и летописей прогресса, они полагают, что на наше восприятие того, кто лучше, а кто хуже, серьезно влияют личное усмотрение и идеология.
Исходя из подобных взглядов, ценностные суждения о прогрессе можно выносить, забывая о превосходстве настоящего над прошлым, а также о максиме, согласно которой что ни делается — все к лучшему. Опираясь на методику специфичных критериев, о прогрессе или регрессе могут судить даже «неоантиквары» — так я называю людей, которым не по душе рассказы о том, что мир проснулся, вышел из тьмы и приобщился к добру лишь триста лет назад, причем произошло это в Северной Европе. «Неоантиквар» не согласен с тем, что новизна — это мера прогресса; он готов, во имя прогресса, подвергать оценке как далекие цивилизации, так и давнее прошлое.
Плюралисты, разумеется, способны и на критические суждения. Вместе с тем стремление оправдывать играет в культурном анализе моего типа столь важную роль, что я определил бы настоящую, заслуживающую уважения культуру как такой образ жизни, который способен противостоять внешней критике. Плюрализм есть попытка обеспечить защиту «другим», причем не только перед лицом современных форм этноцентризма и шовинизма (включая идею о том, что Запад лучше всех), хотя одного этого было бы уже достаточно. Сейчас, после краха коммунизма и подъема глобального капитализма, включая экспансию придуманных нами интернет-технологий, мы, люди Запада, преисполнились самодовольства. Именно в такое время нам следовало бы вспомнить, что Макс Вебер, автор «Протестантской этики и духа капитализма», ничего не говорил о превосходстве протестантизма над католицизмом или Севера над Югом. Он оставался критическим плюралистом, предостерегавшим от «железной клетки» современности, от обезличивающего влияния бюрократического государства, усматривающего в моральной преданности своему роду или своей семье «коррупцию», от опасностей необузданной экономической рациональности.