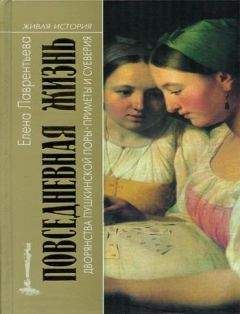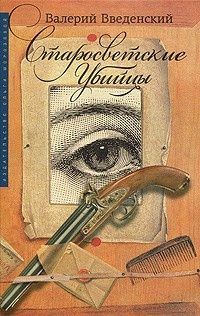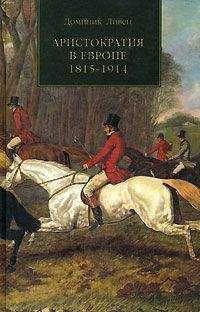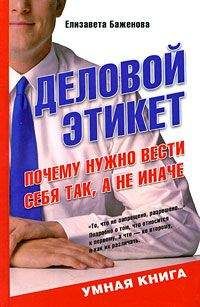В конце главы считаем полезным привести некоторые рассуждения современников на тему «Минздрав предупреждает»:
«…Сигарета имеет весьма важные неудобства. Она вреднее трубки для слюнных желез, а следовательно, и для груди; она сушит во рту и раздражает губы. Сигаретоманы, не довольствуясь вдыханием дыма, глотают его и задерживают некоторое время в груди, и все это только для того, чтобы показать свое искусство в курении. Весьма понятно, что пребывание дыма в воздушных путях, как бы оно ни было кратковременно, вредно для легких, получающих болезненное впечатление от его остроты. Итак, мы советуем курителям сигарет надевать перчатки всякий раз, когда они берут сигарету, и не глотать дыму, потому что эта мания может иметь вредные последствия»{55}.
«Какая чудовищная и отвратительная привычка постоянно курить!.. Привычка эта отравляет разговоры, гостиные и сады, зачумляет платья и атмосферу… Но если привычка сильнее почтения к ближнему и должного уважения к прекрасному полу, если курильщики упорно превращают комнаты в камер-обскуры, затуманивают свет солнца и заставляют жить в облаках дыма, они должны были бы подумать, эти люди-саламандры, изрыгающие дым и пламя, эти электрические машины, зародыши пожаров, что в ту минуту, когда смерть погасит их жизнь и трубку, душа их явится на страшный суд не светлая и не чистая, но грязная, вонючая, не как часть божества, но как часть прокопченного мяса»{56}.
Глава XI.
«Язык гостиных — нечто вроде птичьего щебетанья или чириканья»{1}
«Светское приличие и закон общежития требуют, чтоб в больших собраниях никто не занимался исключительно теми людьми и разговорами, которые ему нравятся и его занимают. В свете каждый, а еще более каждая принадлежит всем. Монополии возбраняются, как исключения, обидные для общества. Всего менее надо говорить с тем, с кем всего более хочется говорить. Уж это так принято!»{2}.
«Тогда светские люди, — отмечает Ф. Ф. Вигель, — старались быть лишь вежливы, любезны, остроумны, не думали изумлять глубокомыслием, которое и в малолюдных собраниях не совсем было терпимо»{3}.
Известно, что и Екатерина II не поощряла серьезных разговоров в светской гостиной.
«Вечерние беседы в эрмитаже назначены были для отдыха и увеселения после трудов. Здесь строго было воспрещено малейшее умствование, — пишет Я. И. де Санглен. — Нарушитель узаконений этого общества, которые написаны были самою императрицею, подвергался, по мере преступлений, наказаниям: выпить стакан холодной воды, прочитать страницу Телемахиды, а величайшим наказанием было: выучить к будущему собранию из той же Телемахиды[42] 10 стихов»{4}.
В светской гостиной культивировалась «наука салонной болтовни», которая заключалась в «умении придавать особенный интерес всякому предмету», «рассуждать о том, о другом; переходить от предмета к предмету с легкостию, с приятностию».
Светский человек не останавливается долго на одном предмете разговора, не вдается в рассуждения, ни на чем не настаивает, а «скользит по предметам».
«Главный характер этого легкого разговора состоял в том, чтобы не зацепиться ни за одну глубокую или оригинальную мысль, не высказать ни в чем своего собственного убеждения; чтобы все было гладко, не касалось ни жизни, ни правительства, ни науки; одним словом, чтобы разговор не был никому особенно интересен и был всем понятен, всем по плечу»{5}.
Гостинный ум, читаем в повести А. Погорельского «Двойник, или Мои вечера в Малороссии», «означает способность приятным образом занимать компанию, особливо дам… Впрочем, гостинный ум разделяется на разные разряды, смотря по разным гостиным. Часто случается, что человек, который блестит умом в одной гостиной, совершенно глупеет, переходя в другую»{6}.
Время вносило некоторые изменения в характер светского разговора. Интересно свидетельство Ф. Ф. Вигеля: «Быть неутомимым танцовщиком, в разговорах с дамами всегда находить что-нибудь для них приятное, в гостиных при них находиться неотлучно: все это перестало быть необходимостью. Требовалось более ума, знаний; маленькое ораторство начинало заступать место комплиментов»{7}.
«Серьезность» стала проникать в разговор с дамами, особенно накануне нашествия французов. «Во всех слоях общества один разговор, в позолоченных ли салонах высшего круга, в отличающихся простотою казарменных помещениях, в тихой ли беседе дружеской, в разгульном ли обеде или вечеринке — одно, одно только выказывалось: желание борьбы, надежда на успех, возрождение отечественного достоинства, славы имени русского»{8}.
Примечательно свидетельство А. Г. Хомутовой: «Вяземский порхал около хорошеньких женщин, мешая любезности и шутки с серьезными тогдашними толками»{9}.
Многие иностранные путешественники, побывавшие в России в первые годы XIX века, отмечают «отсутствие» в светских гостиных серьезных мужских разговоров. Этьен Дюмон, присутствовавший на обеде у графа Строганова в 1803 году писал в дневнике: «По-моему, не доставало разговора между мужчинами в течение одного или двух часов после обеда, когда в свободной обстановке происходит настоящее испытание сил. Но здесь это не практикуется и было бы опасно»{10}.
Марта Вильмот, посетив в Лондоне резиденцию русского посла в Англии С. Р. Воронцова, отмечает следующее: «После обеда мы посидели минут 20, не больше… а затем граф Воронцов встал, предложил руку своей соседке, и все гости возвратились в гостиную. Меня поразил подобный обычай: конечно, невежливо, если мужчины уединяются надолго, но против временного разделения общества, как это принято у англичан, я вовсе не возражаю»{11}.
Пройдет немного времени, и мужчины не будут испытывать неловкость, покидая дам в гостиной и отправляясь в кабинет хозяина. Серьезные разговоры войдут в моду. Однако с дамами мужчины по-прежнему будут «говорить с приятностию даже о самых маловажных предметах».
В «Записках» Ф. Ф. Вигеля имеется любопытное свидетельство о существовании некоего «жаргона большого света». Попытаемся выяснить, что подразумевалось под этим понятием.
Русское дворянство было не удовлетворено состоянием русского разговорного языка, которому не хватало еще выразительных средств, чтобы придать разговору легкость и «приятность». Неудовлетворенность эта и явилась одной из причин засилья как в письменном, так и в устном обиходе французского языка. Чем же объяснялась притягательная сила французского языка?
Ответ на этот вопрос находим в «Старой записной книжке» П. А. Вяземского: «Толковали о несчастной привычке русского общества говорить по-французски. "Что же тут удивительного? — заметил кто-то. — Какому же артисту не будет приятнее играть на усовершенствованном инструменте, хотя и заграничного привоза, чем на своем домашнем, старого рукоделья?" Французский язык обработан веками для устного и письменного употребления… Недаром французы слывут говорунами: им и дар слова, и книги в руки. Французы преимущественно народ разговорчивый. Язык их преимущественно язык разговорный…»{12}.
Что касается русской разговорной речи дворянства, она в целом сохраняла в начале XIX века свою близость к «простонародной» стихии. Приведем свидетельство И. Аксакова, относящееся к началу прошлого столетия: «Одновременно с чистейшим французским жаргоном… из одних и тех же уст можно было услышать живую, почти простонародную, идиоматическую речь…»{13}.
По словам А. С. Пушкина, «откровенные, оригинальные выражения простолюдимов повторяются и в высшем обществе, не оскорбляя слуха…»{14}.
В гостиной светской и свободной
Был принят слог простонародный
И не пугал ничьих ушей
Живою странностью своей… —
читаем в беловой рукописи «Евгения Онегина» (8, XXVI).
И все же существовало различие между салонной и обиходной речью дворянства: в первой простонародные элементы употреблялись в гораздо меньшей степени. Эту особенность «светского разговора» очень точно подметил И. М. Долгоруков, давая характеристику пензенскому помещику Чемесову: «…он сплошь говаривал губернатору не обинуясь, когда тот рассуждал о градоправительстве, сбивался с толку: "Эх, ваше превосходительство! Вить городом-те править не рукавом трясти". Много у него было подобных выражений собственно своих, которые погрешали, может быть, против чистоты отборного светского разговора, но никогда не были в раздоре с здравым смыслом»{15}.