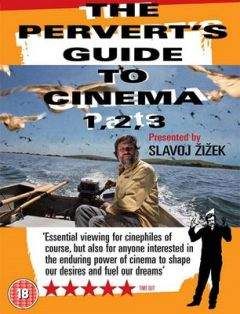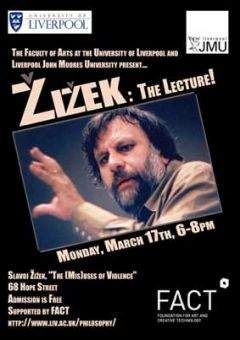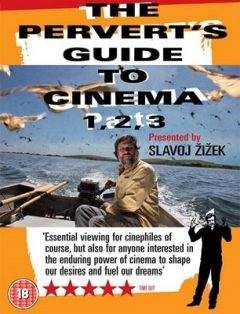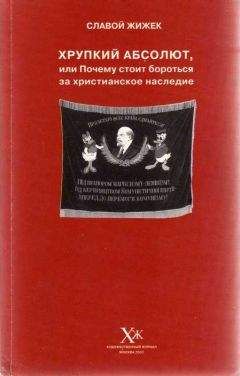Тема искреннего душевного порыва, сколь бы несуразным он ни казался, придающего смысл нашей земной жизни, становится основной в двух последних лентах Тарковского, снятых за границей; в обеих подобный поступок совершает один актер (Эрланд Йозефсон), сыгравший в "Ностальгии" старого безумца Доменико, который публично совершает акт самосожжения, и героя фильма "Жертвоприношение", сжигающего свой дом - самое дорогое, что у него есть. Принесение бессмысленной жертвы можно рассматривать как поступок человека, страдающего навязчивым неврозом, который твердо уверен, что, если он совершит это (принесет жертву), катастрофу (в "Жертвоприношении" речь идет о гибели мира в ядерной войне) можно будет предотвратить или приостановить. Подобное поведение проистекает из известного невроза навязчивого состояния: если я не сделаю этого (не подпрыгну два раза на месте, не сделаю рукой магического знака и т. п.), произойдет нечто плохое. (Детская природа одержимости идеей жертвенности представлена в фильме "Ностальгия", когда герой, следуя предписанию погибшего Доменико, несет горящую свечу от края до края спущенного бассейна в надежде спасти мир.) Как известно из психоанализа, постоянное ожидание грядущих опасностей связано с психическими аспектами jouissance.
Тарковский полагает, что подлинность искупительного жертвоприношения в том, что это "бессмысленный", иррациональный поступок, бесполезная трата или ритуал (вроде перехода через спущенный бассейн с горящей свечой или поджога собственного дома). По его убеждению, только такой спонтанный порыв, где отсутствует всякая рациональная мотивировка, может дать нам возможность снова обрести истинную веру, спасти нас, исцелить современное человечество от поразившего его духовного недуга. Субъект у Тарковского готов на свою кастрацию (отказ от самого себя, собственного рассудка, добровольное принятие состояния детского "слабоумия", подчинение бессмысленному ритуалу), преисполненный решимости освободить Большое Другое: подобное возможно совершить только действием, идущим вразрез здравому смыслу, "иррациональным" поступком, которым субъект может спасти глубинный всеобщий смысл мира.
Если выразить идею жертвенности у Тарковского, прибегнув к хайдеггеровской инверсии, она будет представлять собой следующее: высший смысл принесения жертвы - это принесение в жертву смысла как такового. Весьма знаменательным представляется то, что жертвуемым (сжигаемым) объектом в финале фильма "Жертвоприношение" становится главный объект фантазматического пространства Тарковского - деревянный дом, символизирующий безопасность и глубинную связь с землей; по одной этой причине произведение, ставшее для режиссера последним, как бы подводит определенный итог его творчества. Не есть ли это своего рода "опровержение фантазии", отречение от основного элемента, чье магическое появление в чужеродном окружении (поверхность далекой планеты, итальянский пейзаж) в конце фильмов "Солярис" и "Ностальгия" давало истинную формулу конечного фантазматического единства? Нет, потому что отречение служит нуждам Большого Другого и искупительный жертвенный огонь должен вернуть духовный смысл жизни.
Тарковский избегает низкопробного религиозного обскурантизма тем, что лишает сцену жертвоприношения всякого пафоса и торжественного "величия", изображая происходящее неумелым, несуразным деянием (в "Ностальгии" Доменико никак не удается зажечь огонь, чтобы сгореть в нем, прохожие не обращают внимания на его самосожжение; "Жертвоприношение" заканчивается комическим шествием людей, возвращающихся из больницы после того, как героя забрали в психиатрическую лечебницу, - сцена напоминает детскую игру в салочки). Можно, конечно, объяснить подобный подход намерением показать, что обычные люди, вовлеченные в круговерть повседневности, не способны оценить трагическое величие важного и решающего жизненного акта. Отчасти Тарковский выступает здесь продолжателем давней русской традиции, ярким примером которой является "Идиот" Достоевского. Примечательно, что режиссер, фильмы которого в другом отношении полностью лишены юмора, прибегает к пародии и сатире именно в священнодейственных сценах (так же снята знаменитая сцена распятия в картине "Андрей Рублев", перенесенная в русский зимний пейзаж, которую разыгрывали плохие актеры с нелепым пафосом и проливая слезы)[10]. Не означает ли это, если прибегнуть к альтюссеровским формулировкам, что существует некое измерение, в котором кинематографическая текстура Тарковского разрушает вполне определенный идейный замысел режиссера или, по крайней мере, дистанцируется от него, раскрывая его неосуществимость и обреченность на провал?
Чем же фальшива идея жертвенности у Тарковского? А главное, ЧТО есть принесение жертвы? В самом элементарном смысле понятие жертвования подразумевает обмен: я предлагаю Другому что-либо для меня дорогое с тем, чтобы получить от него взамен нечто более для меня существенное (первобытные племена приносили в жертву животных или даже людей с тем, чтобы боги ниспослали им дождь, помогли победить в сражении и т. п.). На следующем, более сложном, уровне жертвоприношение понимается как действие, непосредственно не связанное с выгодным обменом с Другим, которому приносится жертва; главным здесь является убежденность в существовании некоего Другого, который способен предпринять (или не предпринять) ответное действие на мольбы, сопровождаемые жертвоприношением. Даже если Другой не выполняет моей просьбы, я все же пребываю в уверенности, что он есть и, быть может, в следующий раз его ответное действие окажется иным: окружающий мир, включая все беды, которые могут выпасть на мою долю, не бессмысленный, вслепую действующий механизм, но партнер в возможном диалоге, оттого даже неблагоприятный результат воспринимается как содержательный ответ, а не как сфера неразумной случайности... Лакан в своей психоаналитической теории идет еще дальше. По его утверждению, понятие жертвоприношения подразумевает действие, узаконивающее отрицание бессилия Большого Другого; иначе говоря, субъект приносит жертву не для собственной выгоды, а чтобы заполнить нехватку в Другом, подтвердить видимость всемогущества Другого или, по крайней мере, его неизменность.
В неопубликованном семинаре о неврозе страха (1962/63, занятие от 5 декабря 1962 года) Лакан рассматривал, как истерия страха соотносится с коренной нехваткой в Другом, когда Другой оказывается несовместимым/вычеркнутым: истерический невротик ощущает нехватку в Другом, его бессилие, непостоянство, фальшивость, но он не готов пожертвовать часть себя, чтобы дополнить Другого, восполнить его недостаточность. Этот отказ принести жертву подкрепляет вечные сетования истерического невротика-женщины, что Другой так или иначе манипулирует ею и эксплуатирует ее, использует ее, лишает того, что наиболее дорого ей... Однако это не подразумевает, что истерический невротик отрицает свою кастрацию. Истерический невротик не уклоняется от кастрации (он не психотик или извращенец, т. е. он вполне приемлет свою кастрацию), он только не хочет "функционализировать" ее, поступить в услужение к Другому, т. е. он воздерживается "делать себе кастрацию того, что дополнит недостаточность Другого, иначе говоря, нечто определенного, что будет гарантией функционирования Другого". (В отличие от истерика извращенец легко идет на самопожертвование, т. е. он готов служить объектом-орудием для заполнения недостаточности (нехватки) в Другом; по словам Лакана, извращенец "преданно жертвует собой для jouissance Другого".) Фальшивость принесения жертвы заключается в исходной предпосылке: я действительно обладаю, заключаю в себе ценный ингредиент, которого жаждет Другой и который призван восполнить его недостаточность. Конечно же, при внимательном рассмотрении отказ истерического невротика обнаруживает свою двусмысленность: я отказываюсь принести в жертву нечто (the agalma) от самого себя, ПОТОМУ ЧТО МНЕ НЕЧЕМ ЖЕРТВОВАТЬ, потому что я не в состоянии заполнить эту недостаточность.
Следует всегда иметь в виду, что, по утверждению Лакана, конечная цель психоанализа состоит не в том, чтобы позволить субъекту принять необходимость принесения жертвы ("принять символическую кастрацию", отказаться от незрелой нарциссической привязанности и т. д.), а в том, чтобы дать ему возможность противостоять страшной притягательности жертвоприношения - притягательности, которая, разумеется, есть не что иное, как суперэго (Сверх-Я). Жертвоприношение, в конечном счете, есть действие, при помощи которого мы стремимся компенсировать чувство вины, налагаемой предписанием невыносимого суперэго (упоминаемые Лаканом "темные боги" ("obscure gods") - другое название для суперэго). Исходя из этого, можно видеть, в каком именно смысле проблематика двух последних фильмов Тарковского, сосредоточенная на идее жертвы, фальшива и обманчива. Хотя, несомненно, сам Тарковский горячо бы возражал против подобного утверждения, непреодолимое влечение его героев к совершению бессмысленного жертвенного поступка обусловлено особой ролью суперэго.