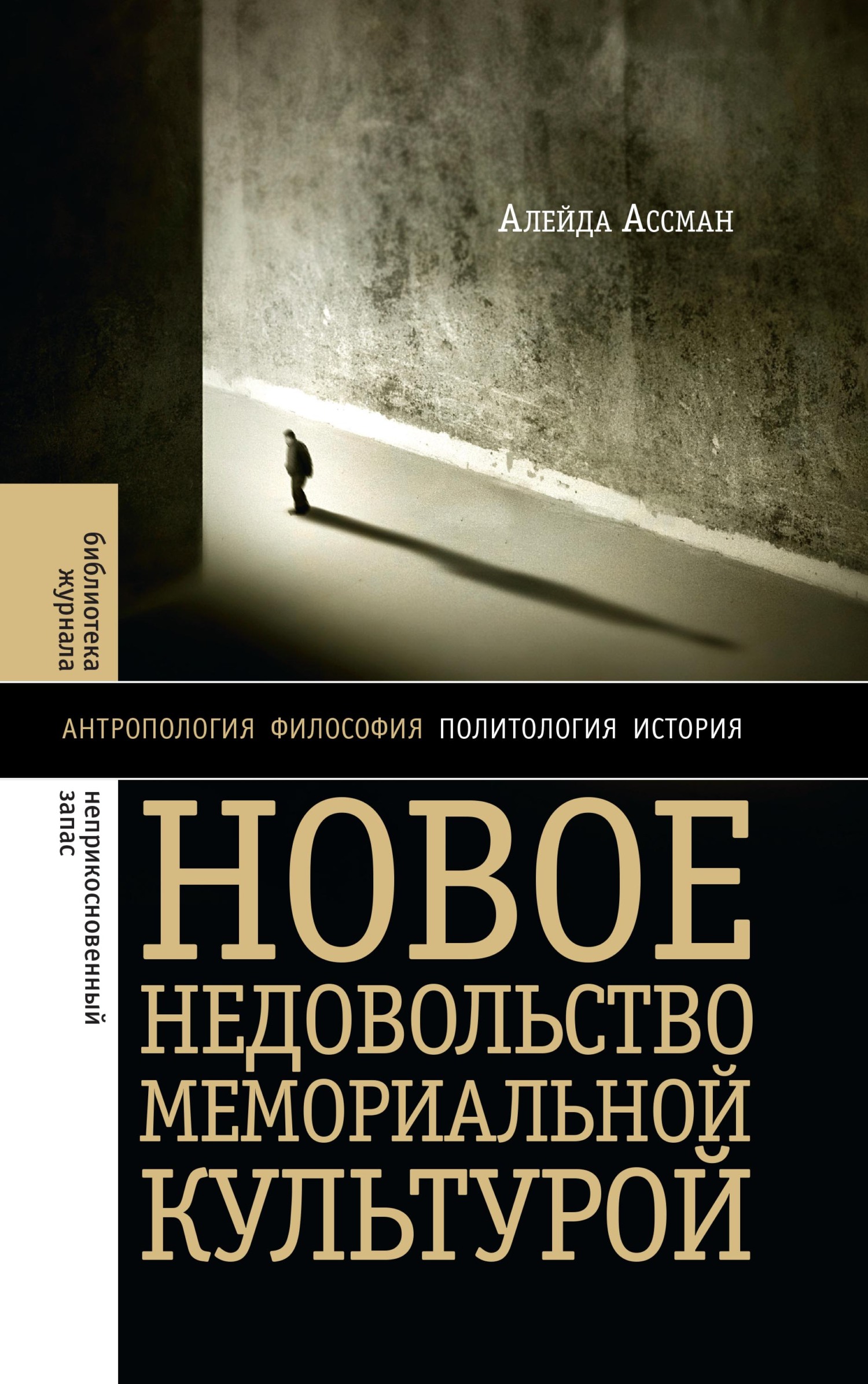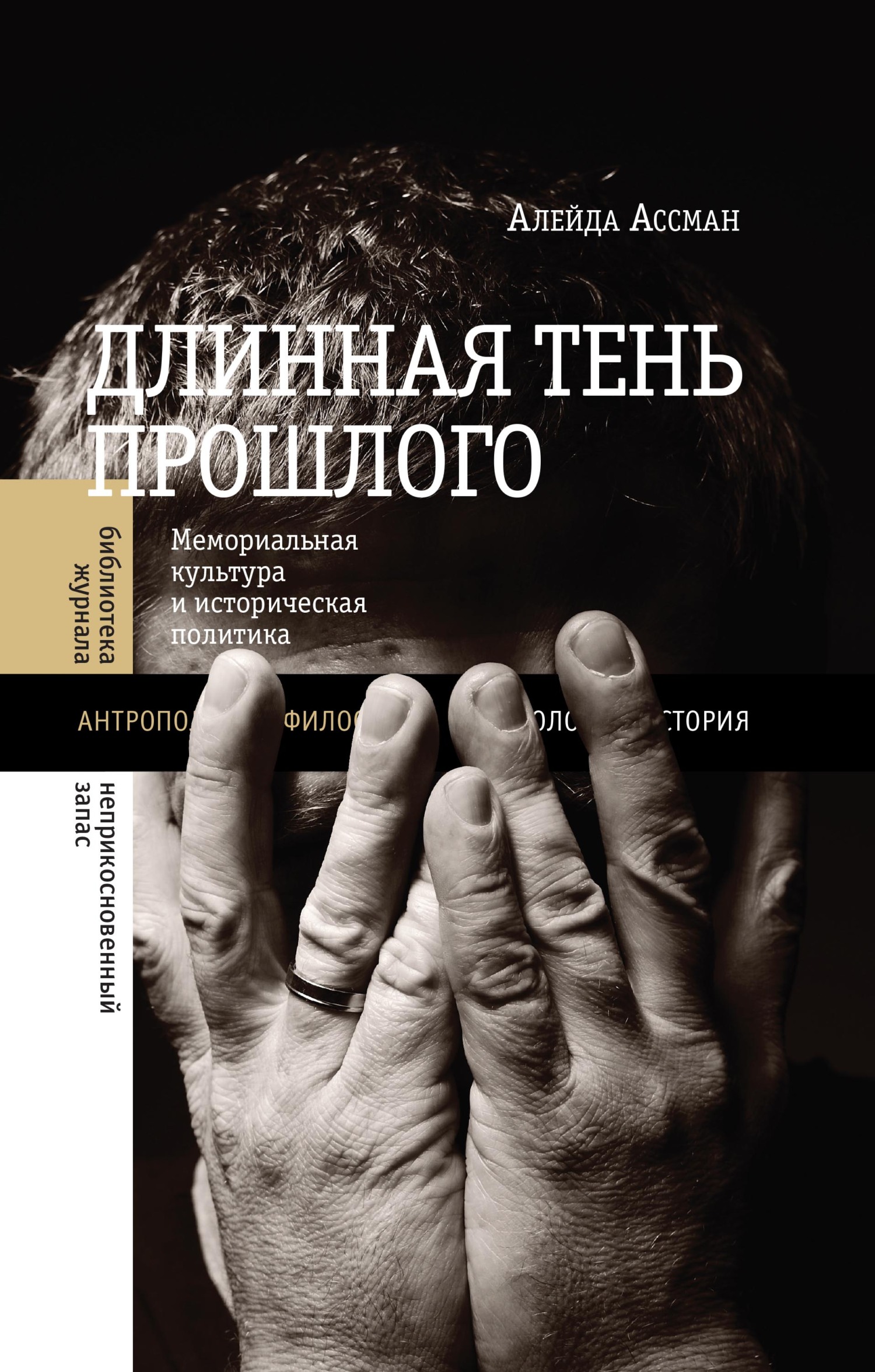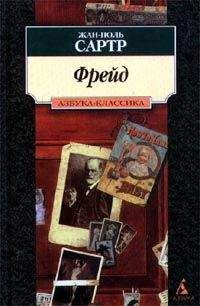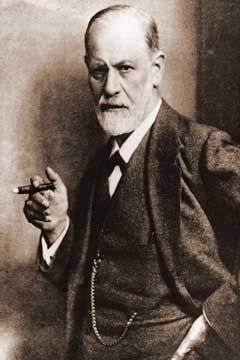жертв может вывести, говоря словами венгерского писателя Петера Эстерхази, только «совместное знание европейцев о нас самих в роли преступников и жертв» [277]. Диалогический принцип транснациональной европейской памяти точно сформулировал другой венгерский писатель Дьордь Конрад: «Хорошо, когда мы, обмениваясь воспоминаниями, узнаем, что о нашей истории думают другие. …Вся европейская история – это общее достояние, открытое любому без всякой национальной или иной предвзятости» [278]. Дьордь Конрад, охарактеризовав наличное положение дел, указал и на потенциал, содержащийся в культурных рамках Европейского союза.
Израильский писатель Асмос Оз однажды заметил: «Будь моя власть, то на любой миротворческой конференции, проходящей где-нибудь в Вье (Wye) или Осло, я бы всякий раз отключал микрофон, когда та или иная сторона заводила речь о прошлом. Ведь переговорщикам платят за то, чтобы они находили решения для проблем настоящего и будущего!» [279] К сожалению, преодоление прошлого не всегда удается отделить от решения насущных проблем и проблем будущего. Напротив, повсюду в мире различные формы памяти самым тесным образом связаны с возникновением новых политических структур, а также с формированием новых взглядов на прошлое и будущее.
Спустя шестьдесят восемь лет после окончания Второй мировой войны мы видим различные фазы и типы исторической политики. Она началась с замалчивания как формы «диалогического забвения». В послевоенной Германии произошла смена политической системы, а главные военные преступники оказались под судом (теперь это именуется transitional justice [280]), однако внутри западногерманского общества в качестве эффективной стратегии социальной интеграции использовались принципы забвения и прощения при далекоидущем отказе от юридического преследования совершенных преступлений. Забвение практиковалось и другими европейскими странами обоих военно-политических блоков эпохи холодной войны. Это продолжалось до 1980-х годов, когда Холокост, выйдя из тени Второй мировой войны, занял в сознании мирового сообщества место главного преступления против человечности в XX веке. Политика умолчания и подведения финальной черты, оправдывавшая себя после симметричного насилия гражданских войн, не срабатывала в случае радикальной асимметрии использования экстремального насилия. Если диалогическое умолчание является стратегией, которая основывается на взаимной договоренности, то репрессивное замалчивание продлевает разрушительную асимметрию властных отношений: преступники уходят от ответственности, а жертвы продолжают страдать.
Вторая модель мемориализации является исторической новацией, ставшей ответом на трагедию Холокоста. Ни одно из прежних травматических событий мировой истории не порождало столь абсолютного императива «не забывать никогда!». Подобный императив, наводя мосты между нацией жертв и нацией преступников, формирует глобальное свидетельское сообщество. Добровольно взятое им на себя обязательство по увековечиванию памяти возводит определенную историческую эпоху в ранг «нормативного прошлого», превращая это обстоятельство в заповедь гражданской религии. С формированием памяти о Холокосте происходит переориентация политических и социальных рамок с забвения на памятование. Подобная мемориализация привела к необратимому изменению политической чувствительности в глобальных масштабах. Память о Холокосте с ее ориентацией на долговечную мемориализацию и глобальные масштабы хотя и стала моделью для различных категорий жертв, однако во многих отношениях она отличается от памяти этих социальных групп.
В 1990-е годы возникла еще одна форма мемориализации, политическая и культурная цель которой заключалась в общественном признании жертв и необходимом им воздаянии справедливости, но не увековечивании памяти о них на все времена. Эта третья модель предполагала сохранение памяти ради преодоления прошлого. Речь шла о проработке травматического прошлого, завершением которой должна была служить не просто память о нем, а трансформация государственного насилия в структуры моральной ответственности и успешная социальная интеграция бывших жертв и преступников. Когда жертвы обретают голос, а их страдания получают признание и сочувствие, когда их взгляд на историю входит в национальный нарратив, а за совершенными преступлениями следует символическая или моральная компенсация пострадавшим, то появляется надежда, что эффекты расколовшего общество политического террора (как это было в Аргентине) или насилия со стороны колониальных властей (например, в Австралии) будут преодолены. Третья модель подразумевает не увековечивание памяти о прошлом, а его преодоление в прямом смысле, то есть исцеление от травмы, примирение и открытость для совместного будущего.
Наконец, модель диалогической памяти, которая пока только складывается и еще не обрела устойчивых форм в мемориальной политике, отвечает такой ситуации, когда две или несколько стран пережили общую историю взаимного насилия. Диалогическая память имеет особенно благоприятные шансы в альянсе государств, каким является Европейский союз, за счет взаимного сближения и признания причиненных другому страданий; здесь появляется возможность ослабить монологизм национальной памяти и укрепить транснациональную интеграцию созданием более дифференцированной и комплексной конструкции исторической памяти.
Здесь открывается важнейшее поле исторического образования, дающего возможность учиться друг у друга. То, что казалось немыслимым для первого поколения, а затем игнорировалось вторым поколением, может послужить представителям третьего поколения темой для взаимных рассказов и предметом для взаимопонимания. Знание о травмах, которые твоя страна нанесла европейским соседям, является важнейшей предпосылкой развития прочных добрососедских отношений поверх границ между государствами. Это знание ведет к пониманию, возникающему как бы изнутри новых, более глубоко проработанных взаимосвязей с окружающими странами. Это также существенная часть европейского образования: знание исторических травм, которые выпали на долю соседей, особенно если травмы были нанесены твоей собственной страной. Чем глубже взаимопонимание, тем менее невротическими будут взаимоотношения европейских соседей. Издевательские карикатуры греков, рисующих Ангелу Меркель с гитлеровскими усиками, или глубокое недоверие британцев, питаемое к немцам на протяжении почти семи десятилетий, – подобные стереотипы способны передаваться от поколения над ними, то разного рода отрицательные клише могут постепенно сойти к поколению; однако если воспринимать их серьезно и работать на нет, благодаря устойчивому развитию диалогической памяти.
Пять тезисов о предпосылках новой мемориальной культуры
Обычные живые существа забывают и начинают сначала. Но мы – люди, и мы никогда не будем искренними, не имея перед глазами то, что мы совершили.
Карл Ясперс [281]
Новое понимание памяти и коммеморации существенно изменило наше отношение к прошлому. Связанные с этим последствия для культуры можно резюмировать в виде пяти тезисов.
Память – идет ли речь об индивидууме или социальной группе – является антропологической универсалией.
Память служит основной формой человеческого самосознания и ориентации во времени и пространстве. Эта мысль не нова, напротив, она с глубокой древности присутствовала в культурных практиках, определяя их характер. Она была лишь временно забыта и потеряла свое значение внутри темпорального режима эпохи модерна; данный темпоральный режим отводил абсолютно привилегированную роль будущему, обесценивая прошлое. Пока считалось, что прошлое проходит, а потому не может представлять собой важный ресурс для настоящего, человеческая способность помнить не имела большого социального и культуротворческого значения.